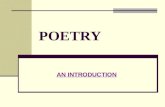ПОЭЗИЯ - POEZIA.USpoezia.us/kritikam/RussianPoetry-4-5-2015.pdfПОЭТИЧЕСКАЯ...
Transcript of ПОЭЗИЯ - POEZIA.USpoezia.us/kritikam/RussianPoetry-4-5-2015.pdfПОЭТИЧЕСКАЯ...
ПОЭЗИЯ RUSSIAN POETRY PAST AND PRESENT
Editor / Редактор
Yelena Dubrovina / Елена Дубровина (USA/США) [email protected]
Editorial Board / Редакционная коллегия
Dmitry Bobyshev (University of Illinois, USA/США) John Bowlt (University of Southern California, USA/США)
Brett Cooke (Texas A & M University, USA/США) Vadim Kreyd (University of Iowa, USA/США)
Natalia Laidinen (Russia/Россия) Igor Shaitanov (Российский государственный гумани-
тарный университет, Russia/Россия)
Поэзия: Russian Poetry Past and Present is published semiannually. Subscription rates are as follows: Institutions – $30.00; Individuals –
$20.00. Postage in the USA is $3.00; postage in Canada is $6.00; foreign postage is $10.00. Send payment to: Charles Schlacks, Publisher, P.O. Box 1256, Idyllwild, CA 92549, USA. Email:
Copyright © 2015 All rights reserved
Printed in the United States of America
ISSN:
On the cover / На обложке: Елена Краснощекова. Москва, Россия. «Венеция». Холст, масло.
СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ / POETRY NOTEBOOK
ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ / POETRY HERITAGE
Татьяна Штильман Я все еще не научилась… 1 ОКНА 2 Не обмани меня… 2 Безумие – везде одно… 3 День был праздничный… 3 РУССКИЙ ВАЛЬС 4
Леонид Ганский Все чище голос мой… 7 Звезды купались в асфальтовый лужах… 7 В моем земном уединеньи… 8 Сверлит сверло сомненья… 8 Из дерева, покрытый ситцем… 8 Нас разделяют границы… 9 Стакан вина у стойки грязной… 9
Леонид Арoнзон ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «ЛЕБЕДЬ» 11 СОНЕТ В ИГАРКУ 11 УТРО 12 Стали зримыми миры… 12 Есть между всем молчание… 13 СОНЕТ КО ДНЮ ВОСКРЕШЕНИЯ МИХНОВА ЕВГЕНИЯ 13 На стене полно теней… 14 Всё лицо: лицо – лицо… 14 В двух шагах за тобою рассвет… 15 Как хорошо в покинутых местах!... 15
СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ / CONTEMPORARY POETRY
РОССИЯ / RUSSIA
Александр Карпенко ДОГОРАЕТ ПОЖАРИЩЕ ДНЯ 16 Сотканная из моей печали… 17 Непредсказуем, как ветер… 17 А тем, кого в горах настигло бремя… 17 Поговори со мной, трава!... 18 ШАХМАТЫ 18 ДВЕ ПРАВДЫ 19 Что ж ты, осень, вытворила с нами?... 19 КРЕСТНЫЙ ХОД 20
Анатолий Нестеров Всё повторяется в природе…. 21 Под музыку дождя и листопада… 21 Мои друзья ушли туда… 21 Вдали от шума и от прений… 21 Сегодня небо голубое… 22 Декабрь лютует, лютует… 22 Года минутами шурша… 22 А мне казалось: я бессмертен!... 23 Аллергия на осень… 23 Отлит я совсем не из бронзы… 24 В январе вовсю морозы… 24
Сергей Сутулов-Катеринич ГЕННАЯ ПАМЯТЬ 25 ТРЕТИЙ ВЕК 25 ОСЕНЬ СЕРДЦА, ИЛИ… 26 МИСТЕРИЯ, СВОДЯЩАЯ С УМА 27 СКРИПОЧКА, СВЕЧА, «ГАМБРИНУС» 28 В те поры, когда венценосцы… 29 ГОЛУБОГО ОЗЕРА СЛЕЗА…. 29
ИЗРАИЛЬ / ISRAEL
Eвгений Минин ПОЭТ 30 Мы от поэзии в убытке… 30 ПЕРСОНА НОН ГРАТА 30 О КАНАЛАХ 31 ИЕРУСАЛИМ 31 ОБНИМИ МЕНЯ ПОКРЕПЧЕ 31 ОЗЕРО 32 БЕССОННИЦА 32 ОСЕННЕЕ 32 ПО ИЕРУСАЛИМУ 33 ЭЛЕГИЯ 33
Валерий Пайков ЧТОБ ИХ НЕ ЗАБЫЛИ ИМЯ 34 В МОНАСТЫРЕ ФРАНЦИСКАНЦЕВ 35 ЗЕЛЕНЩИК 36 ГОРОД ВЕСНОЙ 36 СПРАВКА О ЖИЗНИ 37 С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ 38
АМЕРИКА / AMERICA
Дмитрий Бобышев ПОЭТУ 39 АБСУРД С НЕПРИЛИЧИЕМ 39 ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ 40 ЧЕТВЕРО 42
Вадим Крейд Еще ты здесь, где звон трамваев… 45 когда восходит хладный свет… 45 Безоблачность, безлюдие, безветрие… 45 А вот и день людской настал… 46 Наблюдая как запад менялся…. 46 То не флейты, не струн…. 46 Осени поздней раскрытая книга… 47 Смеркается... В небе над нами… 47 Ехал домой привычной дорогой… 48 Вешний день, вишневое цветенье… 48 На закате алою игрою… 48 Паутинка сверкает… 49 Тишина – копилка дальних звуков… 49 Когда взлетишь… 49
Игорь Джерри Курас Среди чужих людей… 50 Пока я спал, всё снегом занесло… 50 Не бойся ничего… 51 ЧУЖОЙ СОН 51 НЕПАМЯТНИК 52 Есть только облака и чернозём… 52 То гальки гладь, то ракушек… 53 Здесь нехотя – едва… 53
Анатолий Либерман ИЗ ЦИКЛА «ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ» I. Ну, какой я танцор?... 55 II. Нет, не надо, не приходи… 55 III. Так это были вы?... 55 IV. Ты все еще любишь… 56 V. Любимая, скажи, когда… 57 VI. Письмо. У Икса умерла жена…. 58 VII. Всё чаще женщины… 58
Нора Файнберг Что делать нам, когда зима… 59 ДОМ ВОЛОШИНА 59 О твёрдости неспелых груш… 60 Свечу печали желтой потушить… 61 Мой голос слаб… 61 И день пройдёт… 61 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПУШКИНУ 62 По клавишам моей судьбы…. 62 Ругают или почитают… 62 НА ВЫСТАВКЕ СЕЗАННА… 63
Рудольф Фурман СВЕТ И ТЕНИ 64 То ветер гонит холод… 65 Вставало утро… 65 ПОПЫТКА ОБЪЯСНЕНИЯ 66
Пока еще пространства не пусты… 66 СРОК ЖИЗНИ 67 В этот парк, где царит одичанье… 67 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕЙЗАЖ 68 Нет, не подвиг, конечно… 68
Елена Дубровина ПРИХОД ЗИМЫ I. Какая ночь!... 69 II. Вот луч, запутавшись в капкане… 69 III. Лежит узорчат и уныл… 70 IV.Тоска, закутавшись в пальто… 70 V. Нарушая покой, чуть слышно… 71 VI. Заговорилась ночь… 71 VII. А город спал… 72 VIII. Скользкое, липкое, утро хрустящее… 72 Закрыты шторы… 73 Упало солнце с длинной занавески… 73
ФРАНЦИЯ / FRANCE
Виталий Амурский Приамурской тайги мне… 75 Уходят пилигримами года… 75 Что ни день, то тревога… 76 Одним – земля сырья… 77
АВСТРАЛИЯ / AUSTRALIA
Наталья Крофтс Остатки снега с черепичных крыш… 80 Мне не уйти из психбольницы…. 80 Я уже не пойду за тобой… 81 ARS POETICA 81 На развалинах Трои лежу… 82 Вслепую, наощупь… 82 Молча бродить по городу… 82 Отключить телефон… 83 Я – жёлтый листик на груди твоей… 83
ПЕРЕВОДЫ / TRANSLATIONS
Андрей Кнелер / Andrey Kneller Марина Цветаева: Моим стихам, написанным так рано… / My poems, written early… 85 Осип Мандельштам: ЛЕНИНГРАД / LENINGRAD 86 Анна Ахматова: Ночь моя – бред о тебе… / My night – I think of you… 87 Владимир Маяковский: Уже второй… / Past оne о’clock… 88
ВОСПОМИНАНИЯ / REMEMBRANCES
Дмитрий Бобышев ОКО АХМАТОВОЙ 90 АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ 95 ПЯТАЯ РОЗА 96 ПАМЯТНИК В СНЕГУ 97
Валентина Синкевич ДВЕ СУДЬБЫ 98
Виталий Амурский МИККИ МАУС С ДУШОЙ ЧЕ ГЕВАРЫ 107
СТАТЬИ / ARTICLES
Дмитрий Бобышев РУССКИЙ ДОМ В АМЕРИКЕ 115
Анатолий Либерман НЕГРОМКИЙ ГОЛОС ЕВГЕНИЯ БОРАТЫНСКОГО 137
Александр Карпенко ЭЗОТЕРИКА ФЁДОРА ТЮТЧЕВА 147
Петр Казарновский ВРЕМЯ КАРТИНЫ И ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА 162
РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS
Ирина Чайковская ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 174
ОБ АВТОРАХ / ABOUT THE AUTHORS
Виталий Амурский 185 Леонид Аранзон 186 Дмитрий Бобышев 187 Леонид Ганский 188 Елена Дубровина 189 Петр Казарновский 190 Александр Карпенко 191 Андрей Кнеллер 192 Вадим Крейд 193 Наталья Крофтс 194 Игорь Джерри Курас 195 Анатолий Либерман 196 Евгений Минин 197 Анатолий Нестеров 198 Валерий Пайков 199 Валентина Синкевич 200 Сергей Сутулов-Катеринич 201 Нора Файнберг 202
Рудольф Фурман 203 Ирина Чайковская 204 Татьяна Штильман 205
ИЛЛЮСТРАЦИИ / ILLUSTRATIONS
Фотографии Татьяны и Леонида Гатинских 6 Инна Лазарева. «Портрет Николая Гумилева» 44 Елена Красновщекова. «В огне чувства» 54 Сергей Пашков. «Древо жизни» 74 Инна Лазарева. «Женский портрет» 78 Лариса Филиппова. «Зимний пейзаж» 79 Инна Лазарева. «Портрет Владимира Маяковского» 84 Инна Лазарева. «Портрет Анны Ахматовой» 89 Алексей Даен. «Генрих Сапгир» 106 Сергей Голлербах. «На улице» 146 Леонид Аронзон. Титульный лист книги AVE. 172 Евгений Михнов. «Пабло Казальсу» 173 Фотографии из семейного альбома Т. Штильман 207
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 1-6.
Татьяна ШТИЛЬМАН (1904-1984) 1 2 Париж, Франция
* * * * * 3
Моему брату Ю. Мандельштаму 4
Я все еще не научилась Не возмущаться и не лгать. И верить только в Божью милость И в Ангельскую благодать.
И все еще забыть не в силах Самум нахлынувших страстей, Все имена навеки милых Из жизни вырванных моей.
И крематорных труб колодца – Смертей ненужных никому – Пока живое сердце бьется Жестокость эту не пойму.
Во мне смиренья дух лишь замер – Как трудно с этим духом жить! Но газовых ужасных камер Мне не забыть – и не простить.
1 Редколлегия журнала выражает глубокую благодарность Мари Стра-винской, внучке Юрия Мандельштама и правнучке композитора Игоря Стравинского, а также дочерям Татьяны (Штильман) Мандельштам-Гатинской, Ninе Coissac and Alexandrе Berder, за любезно предоставлен-ные материалы из семейного архива поэтессы. 2 Татьяна Владимировна печаталась сначала в парижской периодике под фамилией матери – Штильман, а после войны – под фамилией Мандельштам-Гатинская (Мандельштам – фамилия отца и брата Юрия, Гатинский – фамилия мужа, поэта Леонида Гатинского, псевдоним – Леонид Ганский). 3 Из книги: Татьяна Мандельштам-Гатинская. «Пламя жизни. Стихи», Париж, 1975 г. С. 67, стр. 15. 4 Юрий Мандельштам, поэт, литературный критик, погиб 15 октября 1943 года в немецком концлагере Яворжно, Польша. Широко печатался в парижской русскоязычной и французской периодике.
2 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
ОКНА5
Есть окна раскрытые в поле Иль в темно-сиреневый сад. Есть окна – как двери на волю, Где синие звезды горят.
Есть окна с решеткой чугунной – Слепые прорезы стены, Как песни в гитаре бесструнной, Как предрассветные сны.
Есть окна, как черные чётки, Как голос безумья и тьмы. Есть окна совсем без решетки И все-таки – окна тюрьмы.
* * * * * 6
В. Мамченко7
Не обмани меня в надежде, О, ветер вечности моей. В саду моем совсем как прежде Поет в сирени соловей.
И пахнут новой жизнью гроздья, И молодостью, и весной, И радостью, быть может, поздней, И крепкой патокой лесной.
Теперь не сомневаюсь в друге – Поет как прежде соловей. Ты возвращаешься на круги, О, ветер вечности моей.
5 Там же, стр. 42 6 Там же, стр. 43 7 Мамченко, Виктор Андреевич (1901-1982), поэт, один из организа-торов Союза молодых поэтов и писателей Парижа (1925).
Татьяна Штильман 3
* * * * * 8
Памяти В. Д.
Безумие – везде одно, Все тот же сон об избавленьи скором. Тяжелым камнем – в илистое дно, В пустое небо – звонким метеором.
Спор, крики, шум в портовых кабаках, Вино на скамьях, выбитые стекла. Лицо – в подтеках, тело – в синяках, Фуфайка грязная насквозь промокла.
– Товарищи! Что было до сих пор?Нам этих стен, нам этой жизни мало!И крики звонки, как церковный хор:– Товарищи! Для Интернационала! –
Любовь… Но разве есть теперь любовь И дружба без упрека, без предела? – Все для тебя: моя живая кровь,Моя душа, избитая как тело.
В часы ночные страшной пустоты Я слепну от щемящего бездумья. Все – для тебя, но разве знаешь ты Мрак моего высокого безумья.
Париж. Сентябрь 1930 г.
* * * * * 9
День был праздничный, душный, унылый,Солнце рано взошло над двором.Где-то близко шарманка заныла, –Может быть, у меня под окном.
8 Сборник стихов. Союз молодых поэтов и писателей в Париже. № IV, 1930 г, стр. 31. 9 Напечатано впервые в журнале «Новоселье», №42-44, 1950, стр. 139.
4 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Маруся отравилась, В больницу повезли, Ей доктор и сестрица Старались жизнь спасти.
Отворились подвальные щели Распахнулись глаза этажей. Сквозь сожженные веки глядели, И шарманка запела нежней:
Приходит к ней подруга Марусю навестить, А доктор отвечает: Уж при смерти лежит.
Лишь напротив окно не раскрылось, Там Маруся лежала одна, Ей свиданье желанное снилось... Одиночество и тишина.
Приходит к ней друг милый Марусю навестить, А сторож отвечает: В часовенке лежит.
Но не слышит Маруся шарманки. Звуки мимо, все выше, вперед. На забытой аптекарской склянке Лить зеленый остался налет.
РУССКИЙ ВАЛЬС10
Эта музыка старого вальса Будет долго дрожать на смычке, Ты, смычок, ей в ответ улыбайся, Говори о любви и тоске.
10 Стихотворение было напечатано в журнале «Современник», №30-31, 1976 (Торонто, Канада), с. 169
Татьяна Штильман 5
О потерянном счастье не плачут, Жду последнего дня своего. Эта музыка многое значит – И не значит почти ничего.
Свет сиреневый падал небрежно На снежинки кружащихся пар, И тебе неожиданно нежно Молодой улыбнулся гусар.
Но что губы его прошептали, Заглушил тебе праздничный гул… Вдруг повеяло холодом в зале, Будто северный ветер подул
Из страны, где снежинки не тают, Из страны, что приснилась на миг, Где мохнатые звезды летают, Забираются под воротник.
«Замело тебя снегом, Россия, Запуржило седою пургой, И суровые ветры степные Панихиду поют над тобой».
6 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Татьяна Мандельштам-Гатинская с мужем Леонидом Гатинским (из архива Мари Стравинской)
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, # 4-5 (2015), 7-10.
Леонид ГАНСКИЙ (1905-1970) 1 2 Париж, Франция
* * * * *Все чище голос мой, все чище.Не устают изломы уст.Весна неизреченных чувствЦветет на всяком пепелище.
И звонче голос мой, и звонче. Но осень уж пора встречать. И если надо песнь кончать – Мне дома хочется закончить.
* * * * *Звезды купались в асфальтовых лужах.Черные стены парижских домовПрятали в комнатах серенький ужасСнов непристойных, удушливых снов.
Шинами чмокали автомобили. Изредка ночь разрывали свистки. Женщин в отчаяньи били, любили. Женская доля: любовь, синяки.
Счастье? Но счастья лишь малые крохи. Перепадет: насмешка и срам. Прячется боль от дневной суматохи, Снам не мешая, удушливым снам.
В небе, везде одинаковом небе, Звезды и, может, обещанный ад. Солнце взойдет, но заботы о хлебе Опередят его, опередят.
1 Предлагаемые стихи печатаются по архивным материалам семьи поэта. 2 Настоящая фамилия – Гатинский
8 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
* * * * *В моем земном уединеньиЯ пригвожден к земле скупой.И беспорядочной толпойМаячат в темном отдаленьи
И звезд серебряные тени, И неба мертвые черты – Непостижимой пустоты Растерянность недоумений.
* * * * *Сверлит сверло сомненья,И мысль за ним воследВинтом умокруженьяСпасается от бед.
Душа, мой пьяный ангел, Что делать мне с тобой? А дни идут, как танки, В победоносный бой.
И жизнь нам по колено. Но смерть не по плечам. И все здесь – все измена, Предательство и срам.
Душа, беспутства спутник, Что делать мне с тобой Здесь, в этом мире смутном, Где жизнь – неравный бой?
* * * * *Из дерева, покрытый ситцем,Мой старый чемодан смешной.По-прежнему тебе все снитсяШирокий путь страны иной.
Не думай и сорви все знаки Недружелюбной нам руки.
Леонид Ганский 9
И праздные земли гуляки, Как прежде будем мы легки.
* * * * *Нас разделяют границы,Сторожевые посты.Перелетают их птицы.Только не я и не ты.
Стынут в полях паровозы. Рельсов подкошен разбег. Глядя на белые розы Вижу я розовый снег.
Пятнами пыль на картоне. С пылью смешались цветы. Я убегал от погони. Ты – убежала ли ты?
* * * * *Стакан вина у стойки грязной.Патрон, налей еще вина.Нам в этой жизни несуразнойНе повезло. Так пей до дна.
Так пей, не думая о доле. Не искушай своей судьбы. Средь алчной европейской голи, Быть может, всех счастливей ты.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 11-15.
Леонид АРОНЗОН (1939-1970) Санкт-Петербург. Россия
ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «ЛЕБЕДЬ»1
Благословен ночей исход в балеты пушкинских стихов, где свет, спрессованный во льды широкой северной воды, ещё не мысля, как извиться? блистает тенью белой птицы, и голос птицы той, звуча, внушает мне её печаль. Там я лечу, объятый розой, в покой украшенную позу, где дева, ждущая греха, лежит натурщицей стиха. Дыханье озвучив свирелью, над ней дитя рисует трелью глубокий бор и в нём следы обутой в беса след беды. С тоской, обычной для лагуны, взирает дева на рисунок и видит справа, там, где дверь в природу обозначил зверь, чья морда в мух гудящей свите длинна, как череп Нефертити, и разветвляются рога, как остов древнего цветка, там ПТИЦА – ПЛОТЬ МОЕЙ ПЕЧАЛИ то острова небес качает, то к водам голову склоня, в них видит белого коня.
1966
СОНЕТ В ИГАРКУ Ал. Ал.
У вас белее наши ночи, а значит, белый свет белей: белей породы лебедей и облака, и шеи дочек.
1 Подборка составлена Петром Казарновским
12 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Природа, что она? подстрочник с языков неба? и Орфей не сочинитель, не Орфей, а Гнедич, Кашкин, переводчик?
И право, где же в ней сонет? Увы, его в природе нет. В ней есть леса, но нету древа:
оно – в садах небытия: Орфей тот, Эвридике льстя, не Эвридику пел, но Еву!
Июнь 1967
УТРО
Каждый лёгок и мал, кто взошел на вершину холма. Как и лёгок и мал он, венчая вершину лесного холма! Чей там взмах, чья душа или это молитва сама? Нас в детей обращает вершина лесного холма! Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях, и вершину холма украшает нагое дитя! Если это дитя, кто вознёс его так высоко? Детской кровью испачканы стебли песчаных осок. Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак! Это память о рае венчает вершину холма! Не младенец, но ангел венчает вершину холма, то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак! Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник, нас вершина холма заставляет упасть на колени, на вершине холма опускаешься вдруг на колени! Не дитя там – душа, заключённая в детскую плоть, не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь! Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях, посмотри на вершины: на каждой играет дитя! Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак! это память о Боге венчает вершину холма!
1966
* * * * *Стали зримыми мирыте, что раньше были скрыты.Мы стоим, разинув рты,и идём иконы свитой.
Леонид Аронзон 13
Нам художник проявил на доске такое чудо, что мы, полные любви, вопрошаем: взял откуда? Всё, что мы трудом творим, было создано до нас, но густой незнанья дым это всё скрывал от глаз. Всё есть гений божества: звуки, краски и слова, сочетанья их и темы, но как из тёмного окна пред ним картина не видна, так без участия богемы, что грязь смывает с тёмных стёкол, ничего не видит око.
1967
* * * * *Есть между всем молчание. Одно.Молчание одно, другое, третье.Полно молчаний, каждое оно –есть матерьял для стихотворной сети.
А слово – нить. Его в иглу проденьте и словонитью сделайте окно – молчание теперь обрамлено, оно – ячейка невода в сонете.
Чем более ячейка, тем крупней размер души, запутавшейся в ней. Любой улов обильный будет мельче,
чем у ловца, посмеющего сметь гигантскую связать такую сеть, в которой бы была одна ячейка!
1968?
СОНЕТ КО ДНЮ ВОСКРЕШЕНИЯ МИХНОВА ЕВГЕНИЯ
Да будет празднеством отмечен из века в век твой день рожденья! Мой друг, твоё мгновенье – вечность, но что успеешь за мгновенье?
14 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Но и за светопреставленьем найдём ковчег исполнить встречу, зажжём торжественные свечи, чтоб наших душ увидеть тени!
Вперёд меня не умирай: к Всевышнему найду я руку, и будет ждать тебя не мука, всё тот же ад, но только рай.
Всё той же влаги изобилье, всё тот же я, но только в крыльях.
5 июля 1969 года
* * * * *На стене полно тенейот деревьев. (Многоточье)Я проснулся среди ночи:жизнь дана, что делать с ней?
В рай допущенный заочно, я летал в него во сне, но проснулся среди ночи: жизнь дана, что делать с ней?
Хоть и ночи всё длинней, сутки те же, не короче. Я проснулся среди ночи: жизнь дана, что делать с ней?
Жизнь дана, что делать с ней? Я проснулся среди ночи. О жена моя, воочью ты прекрасна, как во сне!
1969
* * * * *Всё лицо: лицо – лицо,пыль – лицо, слова – лицо,всё – лицо. Его. Творца.Только сам Он без лица.
1969
Леонид Аронзон 15
* * * * *В двух шагах за тобою рассвет.Ты стоишь вдоль прекрасного сада.Я смотрю – но прекрасного нет,только тихо и радостно рядом.
Только осень разбросила сеть, ловит души для райской альковни. Дай нам Бог в этот миг умереть и, дай Бог, ничего не запомнив.
Лето 1970
* * * * *Как хорошо в покинутых местах!Покинутых людьми, но не богами.И дождь идёт, и мокнет красотастаринной рощи, поднятой холмами.
И дождь идёт, и мокнет красота старинной рощи, поднятой холмами. Мы тут одни, нам люди не чета. О, что за благо выпивать в тумане!
Мы тут одни, нам люди не чета. О, что за благо выпивать в тумане! Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идём за нами.
Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идём за нами. Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами?
Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами? Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта: ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.
Ни самого нагана. Видит Бог, чтоб застрелиться тут, не надо ничего.
Сентябрь 1970
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 16-20.
Александр КАРПЕНКО Москва, Россия
Портрет моей мамы работы Юрия Косаговского
ДОГОРАЕТ ПОЖАРИЩЕ ДНЯ...
Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня?
Фёдор Тютчев
светлой памяти матери моей, Ольги Яковлевны
* * * * *Догорает пожарище дня,Снова прошлое рвется наружу.Мама, милая, слышишь меня?Ты дала мне бесстрашную душу!
Сколько лет с потаённой мольбой Я твой облик в душе своей нежил! Если б я был рождён не тобой, Может быть, я так вольно бы не жил...
Я сиротства следов не таю: От печали есть верное средство – И твой облик, и душу твою Напрямик передать – по наследству.
Александр Карпенко 17
Чтобы дочка-сорвиголова, Упований моих не нарушив, Вдруг промолвила те же слова: Папа дал мне счастливую душу!
* * * * *Сотканная из моей печалиСтрастью обручальной, Галатея,Ты о чём кручинишься ночами,Зеркала в дорогу не имея?
Выше неба, тише пасторали Разрослась мечты оранжерея. «Жизнь, куда летишь ты по спирали?» – Ты спроси у сердца, Галатея.
Карфаген давно уже разрушен – Можно выстлать скатертью дорогу, И по свету странствовать без мужа Певчею послушницею Бога.
* * * * *Непредсказуем, как ветер,Устав глядеть на часы,Я знаю на всё ответы,Раскачиваясь, как Весы.
Вверяя столетья мигу, В алмазном сиянье дня Меняю себя на книгу – Ведь книга мудрей меня.
Безумствует век-расстрига У памяти на плаву. Пока ты ещё не книга, Назад отлистай главу.
* * * * *А тем, кого в горах настигло бремя,Врачи рекомендуют только время.
18 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Как много их, у бремени в плену, Они во всём нашли свою вину,
И даже там, где нет прямой вины, Они в долгу остались у войны. Там, где упало в души злое семя, Врачи рекомендуют только время.
Но время не идёт для тех парней, И жизнь, увы, с годами всё страшней: Они вину похоронили в ней.
И я без сна бросаюсь на кровать. Легко ль живых от мёртвых мне спасать?!
* * * * *Поговори со мной, трава!Скажи мне, где берёшь ты силы?Меня ведь тоже так косили,Что отлетала голова...
Скажи, подружка, как дела? Какие ветру снятся дали? Меня ведь тоже поджигали - И я, как ты, сгорал дотла...
Откуда силы-то взялись? Казалось, нет нас – только пепел – Но мы из огненного пекла, Как птица Феникс, поднялись!
Скажи мне нежные слова. Нас ждут и праздники, и будни. Я снова молод, весел, буен. Поговори со мной, трава!
ШАХМАТЫ
Воздухом целительным дыша, Я спустился к морю. Плыли дали. На песке сидели два пажа – И беспечно в шахматы играли.
Александр Карпенко 19
Я спросил тогда у игроков, Что такое вечность – и услышал: «Вечность – это море облаков. Вечность – раздвижная наша крыша».
Оттого ли, в зеркало глядясь, Об отсрочке мы так страстно молим? И летают, молний не боясь, Чайки – между вечностью и морем.
Но порой смыкает облака Мудрость жизни, вещая, слепая, И ребёнок, строя на века, Лишь сухой песок пересыпает.
ДВЕ ПРАВДЫ
Было так: однажды, в непогоду, На просторах огненных полей, Встретились случайно две свободы, И одна сказала: "Будь моей!"
Но другая, сразу не размыслив, Бросила ей гневно: «Ни-ког-да!!!» Ожиданье в воздухе повисло, И заполонила мир вражда.
И теперь всё чаще – прав, не прав ты – До конца не сразу разберёшь... Вот однажды встретились две правды – И одна другой сказала «Ложь!»
И доныне всё идёт по кругу: Всяк стоит до смерти на своём; Истины смеются друг над другом, И добро сражается с добром.
* * * * *Что ж ты, осень, вытворила с нами?Раздала ветрам своё тепло,И поля, как памяти коврами,Ожиданьем белым замело...
20 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Что ж ты, осень, вытворила с нами! Присягнула тучам и дождям... На седой земле, под облаками, Мудрено теперь согреться нам!
И, застыв в зелёном безголосье, Над листвой опавшею парю. Я тобой рождён – ты помнишь, осень? И в тебе, наверное, сгорю...
Что же мне мешает крылья сбросить – И припасть к земле, как жёлтый лист? Я – твой дух пьянящий, помнишь, осень? Я – твой безымянный гармонист.
И сейчас молю тебя о малом: Возврати мне ласку и тепло – Пусть поля, как белым покрывалом, Памяти печалью замело...
Что ж ты, осень, вытворила с нами?..
КРЕСТНЫЙ ХОД
Мудрость часто мы берём у древних, Жизнь передаём из рода в род. Люди так похожи на деревья, Листопад – протяжный крестный ход.
В лес зайду – всё вышито крестами В стылом гаме гаснущего дня; Рыжий клён, как Божьими перстами, Осеняет листьями меня…
И, прохладу дум сглотнув гортанью, Бормоча какой-то древний стих, Я учусь у листьев умиранью. Воскрешенью я учусь у них.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 21-24.
Анатолий НЕСТЕРОВ г. Елец, Липецкой области, Россия
* * * * *Всё повторяется в природе:и этот дождь, и этот гром,и эти птицы в небосводе,которых меньше с каждым днём,
и грусть осенняя мелодий, и первый поцелуй зимы. Всё повторяется в природе, не повторяемся лишь мы.
* * * * *Под музыку дождя и листопадаволнуют годы прожитые, дни.Не возвращайтесь в прошлое…Не надо!Там пепел и потухшие огни.Там будут мучить вечные сомненья,тяжёлое предчувствие утрат…И если жизнь всего одно мгновенье –не надо взор свой устремлять назад.
* * * * *Мои друзья ушли туда,где тишина и где покой,и где дрожащая звездасовсем не кажется звездой.
Там дни и годы не спешат, бег времени давно забыт. И только листья шелестят, и только вечность говорит.
* * * * *Вдали от шума и от прений,от суеты, фальшивых премийписал стихи, встречал рассвет,
22 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
не думая о славе, Фет. Он осознал давно, что слава – пустая детская забава. Важнее – плещется река и серебрится в ней строка. А если что-то в жизни вечно – так этот синий майский вечер.
* * * * *Сегодня небо голубое,как двести лет тому назад…Оно такое же, такое,и золотится вновь закат.
И кажется в лесу порою, что время замедляет бег. Всё тоже небо голубое, всё тот же дождь, и тот же снег.
И сосен сонные макушки мне шлют привет из прошлых лет. Гусары пьют, гуляет Пушкин… Дантес готовит пистолет…
* * * * * * Декабрь лютует, лютует,и снег под ногами хрустит,как будто зима салютует,как будто бы осень грустит.
И в этих морозах суровых понять и увидеть должны: глаза – неизбежность сугробов, душа – неизбежность весны.
* * * * *Года минутами шурша,блуждают где-то в мирозданье,где бродят первые свиданья –и в сны приходят не спеша.
Анатолий Нестеров 23
И, в этой лунной тишине, звезда щеки моей касалась, а мне, наивному, казалось: ты возвращаешься ко мне.
* * * * *А мне казалось: я бессмертен!Вот так и буду жить и жить.И дням бесчисленным на сменудругие станут приходить.
Мы только в детстве вечно живы, но подрастаем – и тогда вдруг понимаем, что транжирим невозвратимые года.
И вот однажды, среди ночи, проснусь – и захлебнусь тоской: о как пронзительно короче стал срок, отпущенный судьбой.
И я пойму, что всё уходит, что есть последняя весна. И растранжиренные годы мне отомстят за всё сполна.
* * * * *Аллергия на осень…Все куда-то спешат.И листву свою сбросил,не стесняясь, наш сад.
В небе грустно-осеннем вдруг сверкнёт яркий свет, словно в дни потрясений бывшей радости след.
Он внезапен вначале, как из прошлого весть.
24 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Всё же в каждой печали что-то светлое есть.
* * * * *Отлит я совсем не из бронзы –из речки, из леса, из слов.Отлит я немного из прозы,но больше всего – из стихов.
Оттуда, где страсти клокочут, где чувство вина и вины, где самые белые ночи, где самые чёрные дни.
Где рифмы рождаются трудно, грубит, огрызаясь, строка. Оттуда, где часто – минутно! Оттуда, где редко – века!
* * * * * Нине
В январе вовсю морозы, мы опять в плену стихий. Ухожу я в дебри прозы, забываю про стихи.
Словно окна забиваю, словно с прошлым расстаюсь. Забываю, забываю, лишь тебя забыть боюсь.
На душе слегка тревожно, грусть, как изморозь, светла. И снежинка осторожно на лицо твоё легла. И мороза паутинки, словно сети января. В этой жизни мы снежинки, чур, растаю первым я…
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 25-29.
Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ Ставрополь, Россия
ГЕННАЯ ПАМЯТЬ
Дерево. Вечер. Табличка: Улица… – ветка – …ского. Генная память? Привычка? Возглас поэта: Дзержинского!
Делать судьбу с кого, Поздно решать Маяковскому… Может, прочту: Тарковского, Стих посвятив ему? Сыну или отцу?
Много славных имён. Ты отмолчишься, клён? Зимняя ветка, примёрзшая к облаку, Дай помечтать дураку!
Миг остановлен… В сей час кого Смогу воскресить – навскидку?! Кипренского, Чуковского, Чижевского, Твардовского… Продлеваю – на слог – попытку: Вознесенского, Антокольского, Левитанского, Исаковского, Циолковского, Матусовского…
Зимний фонарь, зажгись! Память… Чужая жизнь… Дрогнула ветка. Ого! Чёрт подери, Дзержинского!
ТРЕТИЙ ВЕК
Ворчит Харон-перевозчик: Дуэль… петля… кокаин… Де-юре: небрежный росчерк. Де-факто: смертельный клин.
26 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
От фарта до форса – пропасть. От факта до фарса – крюк. Фатальная пенелопость Тотальной эпохи вьюг.
Зигзаг зрачка предсказаний – Замри, озорной диез… Сюрпризы мальцам казаней В рязанях припас Дантес.
Ледащая легендарность Сожравших пророка жриц. Сакральная лапидарность Скандальной эпохи «цыц!»
Печорин, шутил поручик? Грушницкий, денщик тверёз? Дуэльный сюжет прокручен – Авось, разведут поврозь…
Окстись, секундант-охальник! Свидетель, угомонись! Задует свечу архангел Над прахом пустых страниц…
Рискует воскреснуть каждый, Однажды вскричав: «Come back!..» Поэт, погибавший дважды, Живёт уже третий век.
ОСЕНЬ СЕРДЦА, ИЛИ… ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ТАТРАХ
спросит осень, соблазняя сентябрями, разрисовывая рыжие страницы
фонарями, журавлями, кораблями: три темницы? три столицы? три девицы?!
двум сестрицам снится яблоко раздора, младшей – чудище и аленький цветочек…
Сергей Сутулов-Катеринич 27
голубица над столицей термидора, как блаженная пророчица, бормочет.
спросит сердце, укоряя октябрями, усмиряя аритмию под ключицей
словарями, снегирями, стихирями: сестрорецкая синица – за границей?
в двух столицах серебрится эхо правды, правду эха расчленили в одиночке.
летописец, никудышный каллиграф ты – третьей кривды недоношенный подстрочник.
спросит совесть, колобродя ноябрями, стрижаментами боясь опохмелиться:
кренделями, янтарями, хрусталями страстотерпцы ублажили очевидца?
…спросит осень, пока старость не спросила. бунтари пронзают ранние закаты.
на парнасе – дефициты керосина. партизаны в зимних татрах языкаты.
МИСТЕРИЯ, СВОДЯЩАЯ С УМА
…начнём с нуля, начнём с рубля: любава – жизнь! а смерть – халява… и я был ты, и ты был я. кому водить: я – бог, ты – дьявол?! Сергей С-К, «светожизни смертотень», 2010
1 …весна, весна, весна… и вдруг – зима! Мелодия для бренного ума? Старинный друг прощально проорал: – Считай астралом огненный Арал!Когда-нибудь нагрянет светотьма –Печальный вывод позднего ума.Любимый дядька мрачно предрекал:– Урал, Чернобыль, далее – Байкал.
28 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Кыштымский след, затейливый весьма, Пронзил отчёты праздного ума.
(…и всё-таки наступит светожизнь, О чём приватно чёрту доложи).
Упрямый сын до индий доскакал: – Прадедушка – казахский аксакал.Религий и наречий кутерьма –Весёлый вызов резвого ума.Алтайский внук над Африкой летал –Точнее, дед – седеющий Дедал…
Причуда саркастичного ума: Аллюзия – иллюзии кума!
2 …ночной пикник. тостует пейзажист: – Любовь, надежда, вера – светожизнь!
(Трагична роковая светотьма – Мистерия, сводящая с ума...)
Артист, альтист, таксист и визажист Напились вусмерть: – Богу – светожизнь!
(Советую скептичному уму Оставить чёрту шанс на светотьму…)
Воскресла светотень! Поторопись Поэта обессмертить, портретист!
СКРИПОЧКА, СВЕЧА, «ГАМБРИНУС»…
…синус, косинус, латинос – комплексуя, минусуйте. синус, морщится Мальвинос, – самый синий на рисунке!
красный косинус ужасен, карабасит Буратинос, красноярские, мужайтесь – градус косит под скотинос!
марсианский плюс, кретинос, аргентинит Арлекинос,
несомненный серый минус! желторотики, попались? синус… косинус… Солярис! скрипочка, свеча, «Гамбринус»…
Сергей Сутулов-Катеринич 29
* * * * *В те поры, когда венценосцы дичали,Молчали шуты, умножая печали.Мычали поэты про чудище обло…Младенцы кричали, старухи скучали,Ворчали братчане, стучали сумчане,Медведи мельчали – громадилась вобла.
Над Крымом …подлодка маячит ночами, Под Ладогой – водка! – судачат крымчане. …озорно за Клязьмой, – очнутся пророки. …огромно, стозевно, – студенты скачали. Позорно на Темзе, – чудит англичанин. …и лаяй датчанин, взорвав караоке!
В те поры, когда царедворцы рычали, Обломов мочалил, давясь куличами: Высокие страсти – метафоры рая… Онегин, чинуши, как прежде, – сычами. Печорин, в какие отчизны отчалим Из чрева державы стозевного лая?!
ГОЛУБОГО ОЗЕРА СЛЕЗА
Утро начинается с… вопроса: Кофе? пиво? чача? чай? нарзан? Вечная задача дикоросса – Рифмой отворить чудно́й Сезам. Поза! Стрекоза – над прозой ЗАГСа. Лозунг в небесах: «No pasaran!» Ночью над Казбеком показался Ангел – вопреки профессорам. Утро начинается с… допроса: Дедушка, ты – вечный партизан? Образ прозы или правды доза – Голубого озера слеза?
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 30-33.
Евгений МИНИН Иерусалим, Израиль
ПОЭТ
Поэт – неповторим, он так подобен чуду,
Беспомощный порой, порою – едкий шут.
Порой настолько мал, что виден отовсюду,
Порой настолько тих, что слышен там и тут.
Не требуй от него Геройства и отваги,
Он плачет по себе, и плач летит во тьму.
Чужую боль несет на листике бумаги,
Необходимый всем, не нужный никому.
* * * * *Мы от поэзии в убытке,где от нее дохода ждать!Порой разденешься до нитки,чтоб книжку тощую издать.Сидим,
безвестные кликуши литературного труда, и в строках раскрываем души, чтоб каждый
плюнуть мог туда.
ПЕРСОНА НОН ГРАТА
Все равно у кого, дочки,
сына и брата
выясняется вдруг: ты – персона нон грата.
Евгений Минин 31
По своей ли вине, по чужому капризу, закрывается дверь, без надежды на визу. Выяснять, почему, – только времени трата – как простой человек стал персоной нон грата. Просто кто-то решил, нет на это закона. А с другой стороны – очень звучно –
персона!
О КАНАЛАХ
Прошли сериалы любви. Меняются в мире реалии. Идут на каналах TV кровавые вакханалии. Увидеть счастливый финал – что воду найти на Юпитере. Но есть и любимый канал – Канал Грибоедова. В Питере.
ИЕРУСАЛИМ
В этом городе высоком, в этом климате несносном Я живу, не уезжая, запершись в себе самом. Это я к нему привязан – и в прямом, и в переносном. Это он ко мне привязан – в переносном и прямом. И хотелось сильным словом, не затасканным и косным Мне в любви к нему признаться, без свидетелей, вдвоем. Это я в нем неразлучно – и в прямом, и в переносном. Это он во мне навечно – в переносном и прямом!
32 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
ОБНИМИ МЕНЯ ПОКРЕПЧЕ…
обними меня покрепче может завтра не наступит темнота закрасит окна будет ночь и снова ночь обними меня покрепче может завтра грянет ветер, как пушинки унесет нас друг от друга вдаль и прочь обними меня покрепче буду врать что на работу что на службу что за хлебом ни за что не отпускай обними меня покрепче обними меня покрепче обними меня покрепче Герда-Герда я твой Кай…
ОЗЕРО
В этом озере пахнет печалью волна, Разбивая колени о дно плоскодонки, А на том берегу и трава зелена, И в песчаных карьерах урчат пятитонки. Тоньше волоса миг между явью и сном, Но побег невозможен из этого плена. Как в «Солярисе» неповторимого Лема, Отражаюсь в свинцовой воде пацаном. Жизнь – космична, её не измерить числом, В ней и чёрные дыры, и белые пятна... Понимаю, что мне не вернуться обратно, Зря ломаю волну деревянным веслом.
БЕССОННИЦА
Долго лежал и смотрел в потолок. Время прозрачное в ступе толок. Сердце щемило, просило кардил. Сон во дворе серой кошкой бродил. Скрипнула хрипло балконная дверь, вполз незаметно непрошенный зверь – буро-зелёного цвета змея – это бессонница злая моя.
Евгений Минин 33
ОСЕННЕЕ
Как-то незаметно станет тяжко, Вроде изменений внешних нет, Кажется иной многоэтажка, Где живу я столько долгих лет. Настроенье пропадет и сила В ожиданье завтрашнего дня. Это значит осень наступила, Наступила прямо на меня...
ПО ИЕРУСАЛИМУ
Город, в котором живёт синдром, где летом в парке можно выспаться даром, богам молятся одновременно трём, предварительно погуляв по восточным базарам, Где и от паршивой овцы хоть шерсти клок, и раздирает рот проперченный фалафель, а неподалёку от Храма есть уголок, там сидит и плачет голодный Флавий…
ЭЛЕГИЯ
Когда бессонницы часы долбят, как дятел, тишину, и небо держит на весу к земле скользящую луну. Щеки пылающей в ночи коснётся робкая ладонь… И я молчу. И ты – молчи… И слово гулкое не тронь…
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 34-38.
Валерий ПАЙКОВ Израиль, Бнэй-Айш
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Надо понять, что там, где жертвуют, всегда есть кто-то, собирающий пожертвования.
Айн Рэнд (США)
ЧТОБ ИХ НЕ ЗАБЫЛИ ИМЯ
(Из цикла «Хроники войны в секторе Газа»)
Уже не умерить боли. Дети мои умирают – с орками злобными бьются, которым детей не жалко – своих, а чужих тем боле. Нет им конца и края: чёрными стаями вьются, из-под земли жалят.
Умирают мои дети. Мне б умереть – стар я. С такой не берут аортой в пехоту – не для Синая. Правда людская, где ты, с совестью что стало? Мир проклинает не орков – детей моих проклинает.
Десятками их хороним – в сотнях семей плачи. Молитвы звучат, как стоны, тысячи свеч не гаснут. За марши победных хроник мы будущим нашим платим. Того они разве стоят, и смерти детей не напрасны?
Валерий Пайков 35
Фарисеи, не счесть которых, клявшиеся мне в дружбе, утешают: не всё так страшно, и орки – люди, по сути. Наслушался их историй – и клясться совсем не нужно: память – моя стража, а дети – мои судьи.
Не уберёг их – бросил в пучину смертельной бойни – как она ищет жадно, где бы плоти ещё отведать. И нет у меня вопросов, когда же будет довольно этой кровавой жатвы, - поскольку нет им ответов…
Над садом могил затишье, ракит шелестят листья, в домах говорят о павших, чтоб их не забыли имя. А сердце всё ищет, ищет – никак ему не смириться, и птицы кружат над пашней, вчера лишь вспаханной ими.
03.09.2014
В МОНАСТЫРЕ ФРАНЦИСКАНЦЕВ
Здесь, в этом месте, похоже (время попробуй, верни), Сын человеческий прожил, самые лучшие дни. Здесь исцелял. И отсюда Он уходил – навсегда. С тайной потребностью чуда мы приезжаем сюда, с верой своей беспечной
36 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
в лучшее впереди… В храме потухшие свечи – словно умолкло «Гряди!». Крест сувенирный на выбор – напоминаньем «Распнут!». Лишь мозаичные рыбы по полу также плывут.
Табга, Израиль. 28.11.2004
ЗЕЛЕНЩИК
Открывает зеленщик утро. Почтовик открывает post. Я уже на ногах, как будто. Я б зеленщиком был, но поздно.
Нет, наверное, слаще места, чем прилавок его цветущий. Всё естественно, как невеста, – ни белил, ни румян, ни туши.
Ах, зеленщик, какое счастье, что к земле мы колени клоним. Я ведь тоже земля, отчасти. Гороскопы твердят, что клён я,
но опавший, безлистый, зимний, что дорожку листвой заполнил, - надо помнить другое имя… Надо все имена запомнить.
21.05.2005
ГОРОД ВЕСНОЙ
Дождя серебряные нити прошили неба крутизну, и солнце вспыхнуло в зените, земли приветствуя весну.
Валерий Пайков 37
Рассвет из линий параллельных уже сплетает кружева. Дорожки в парке пахнут прелью – здесь осень всё ещё жива.
Но воздух улицы пропитан движеньем гнёзд и вышины, и выдыхают холод плиты у храма – возле тишины.
И речка медленно, безглазо, всей тёмной тяжестью своей качает яхты и баркасы, ещё прикованные к ней.
СПРАВКА О ЖИЗНИ
«Травников, Коган, Шатилова», – тянется список. Справки о жизни на всех заготовлены впрок. Мы ещё живы, хоть голос наш кажется писком, мы ещё учим предложенный в детстве урок.
Я потеряю бумажку с посольской печатью – выброшу в первый попавшийся мусорный бак. Нет меня, хватит! Вот если сначала начать бы. Впрочем, не стоит – я вновь бы всё делал не так.
Снова б искал для души незаконные действа, снова любил бы легко изменяющих дам, снова и снова б заглядывал в город из детства, словно я что-то оставил чудесное там.
Снова б томился ошибкой, мучительной самой, зная, что мне не исправить её никогда, снова стоял бы за «Справкой о жизни» часами, чтобы, как прежде, отправить её в никуда.
38 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ
А говорили, когда-то, лет, может, сорок назад, с веток свисали гранаты, рос во дворах виноград, всюду цветы на оградах, в скверах уют и покой. Господи, что ещё надо, радости надо какой…
Словно чума поселилась в прежде весёлых домах – съёжилось всё, износилось, воздух распадом пропах. Песни куда-то пропали, редко услышишь «агу». Крыши, как в пятнах подпалин, мусор на каждом шагу.
Больше высоких заборов, больше громоздких машин… Выйдешь подальше за город, где ещё зелень и синь. Это у тихих погостов, в замети диких ветвей необитаемый остров для позабытых людей.
11.12.2013
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 39-44.
Дмитрий БОБЫШЕВ Урбана-Шампэйн, США
ПОЭТУ Звук ангелу собрат
Н. Клюев Струны дико и туго натяни на подрамник, чтоб из цвета и звука рвался ангел-подранок.
Послушай получше: ближе, ближе... Слови его и у слова вылущивай суть соловьиную:
то выкатит лаково полновесные свисты, то рюмит заплаканно, пусто и чисто.
А какой-либо цели туда и не вкладывай, – нет самоценнее умного лада:
то слегка, то свирелью то собой залимонивает по сиреневым, по прохладным бемолям.
То, швыряясь роялями в горлоухое эхо, вытворяемым тешит Бога и Эго...
АБСУРД С НЕПРИЛИЧИЕМ
Отдыхаешь, а в мыслях залётно: – Ах-ха-ха! – записной зубоскал,
40 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
некто тенором крепко зальётся. Или палец кому показал?
В том и шутка, что не было пальца, в том и жуть, что нема смехача. Видно, принцип какой-то распался, за который бы жизнь – сгоряча...
Без которого в дырке у смысла черноватый пустой хохоток – хоть святых выноси – разрезвился по-дурацки: в портках – без порток.
Кукиш ноликом, коего в школах никакунюшки не обсосут. На хаханю не создан психолог, он – отсутствие сути, абсурд.
Видно, лопнуло нечто, что веком на века закумирено впрок... Звонко пукнул к тому с кукареком весельчак безо лба, колобок.
ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ
От фужеров, от – дзынь! – с юбилярами рвался в пропасть, которую он звал то Хельгой, то Ольгой, то Ларою облапошенно, вусмерть, вразгон...
Да конечно влюблён, что опошлено. – Перекличу слова, как Адам,но тебя – их с ухмылками полчищу –ребряную мою, не отдам.
– Почему, ради швали и убыли,даже ряженым обликом лги, –как по делу куда, не подумали б:прорезиненный плащ, сапоги...
Дмитрий Бобышев 41
То, что любящим – веянье вечного, подглядевшему – низость и грязь... Что ж грешнее и что тут увечнее: нагость их или тот наглый глаз?
Мчался Вертером, ветром и Фаустом, на заборы косясь: не следят? Тыкал в тело навыхват ухватистым, эксгумированным, как солдат.
– Почему: что для любящих высшееили как-либо с высшим на-ты,то позорится, на люди вылезшичерез под наготы-красоты?
Обнаженьем омыв унижения, сняв касанием всю эту ржавь, удивлялся себе ж: – Неужели я и любим, и ещё моложав?
Ведь она, как не знаю, – соломинка, и распахнута без экивок, вся – охапка сияния ломкого, теплоты и расплыва глоток.
И ладонями, пальцами зрячими всю до сердца её прозирал. – То – душа этим телом означена,Это ж твой, идиот, идеал.
– Так рисуй! Но не слёзно-щипательно,а как если б совсем не знаком:то, что выпукло, – кистью и шпателем;волосянку – всегда колонком.
Рисовал, и совал, и размазывал, в ухо – глупости жарко влагал, обожал её розовым разумом. Даже имя лизал по слогам.
42 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Знук ли, абрис ли? – Охра горшечная, что скрестил я с текстурой холста, – ты сестра мне по жизни, ты – женщина, выйди в поле пустого листа.
Пусть отравятся все – и по-разному... Но, отправясь к иным берегам, я красу на прощанье отпраздную и – такую – пущу по рукам.
ЧЕТВЕРО
Парк машин подъездной, проходной полусад, здесь 4 ствола вот так и стоят: тёмно-серых, чешуйчатых до самого сростка, там, где хвоя у них наверху с виду нежёстка... В облачных перьях над ними, над местом видны крыло-лапых 4 сосны.
Размахайны их профили; патло-лохматое время отхиповало когда-то... Их неймёт ни сякой снеготай, и – ни листопад, – в зелени остовы их, не таясь, покуда живые, стоят, чёрным на небо наляпаны: четверо сразу всунуты в воздуха красно-надбитую вазу...
... старости и зари. Врозь пока; но уже завелись визави: закидон сразу двум, а есть ведь и третий; покартиниться хочется, заново, что упущено – встретить,
Дмитрий Бобышев 43
вспомнить былые рутины, ритуалы тщеты... Или же это 2 остывших четы?
То, что грело, то стало прахом и пылью – из пыла. видно, с первых примерок всего-то и было: рост да совместные опыты по добыче блаженств. А воздетые длани — не в местных традициях жест... Им с отвычки бы пере-того это пары, чтоб остро и вдосталь... ... Да то же и будет, за вычетом, разве, удобства!
То же, и – боль невтерпёж вызвездит обязательно, если 3 плюс 1 у аншлюса расклёш. Воли – с противоволями столкновение лобовое; любовь пожирается ревностью и – обратно любовью. Ни единого выхода, крут и кругл треугольный мирок... Плюс ещё один ёжится, одинок.
Одиночество – вот венец абсолюта, вот где слёзы разводами отольются... Сладко ль с другими гореть? Сам сияй. Одиночество – всех и вся... Одиночество четверых, даже с другими рядом, даже древесное – под и над пламенными Парадизом и Адом.
44 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Инна Лазарева. Филадельфия, США. Портрет Николая Гумилева. Уголь.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 45-49.
Вадим КРЕЙД Айова Сити, США * * * * * Еще ты здесь, где звон трамваев, где дворники в комбинезонах из черных шлангов поливают зазеленевшие газоны, но все же там, где луч заката, дымами города обглодан, сверкнет, как медная заплата, на синих латах небосвода. 1957 * * * * * когда восходит хладный свет, – сказали мне однажды, – он мира высшего ответ, какой? – узнает каждый, но если ведаешь о том, что хлад готов помочь вам… С тех пор и вижу сей содом, как явный сон порочный. «Будь независим, как фантом, просторнее, чем небо, и каждый новый миг есть дом, где ранее ты не был». И после этих темных фраз, услышанных однажды, я независим каждый раз, где был зависим каждый. * * * * * Безоблачность, безлюдие, безветрие – и снова в заколдованном кругу безмолвием окутано безверие: «нельзя помочь... но все же… помогу». Сбежал как школьник... в зимний парк над озером,
46 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
лед – зеркало и бирюза – небес, в игре с судьбой беспроигрышным козырем сегодня снег, простор и зимний лес. Безлюдие, бесстрастие, безветрие… Пусть все не так – у жизни свой напор, но взгляд в себя: свободна ассиметрия самой души, незримой до сих пор. * * * * * А вот и день людской настал, Набрав из бодрых сновидений Обрывки дремы, тень от тени, Дельцов магический кристалл. Так пусть же в глухомани дня, В его окрестностях минутных, Тень искажений дней минувших Просуществует без меня! * * * * * Наблюдая как запад менялся, бронзовел, розовел, холодел, ты чему-то в себе удивлялся и какою-то силой владел. И пока от тебя отдалялась щелочь мысли и память сама, просветленью душа удивлялась, озаренью вне знаний ума. И тогда – во мгновение ока – ты становишься этой канвой, на которой людская морока нарисована кистью шальной. * * * * * То не флейты, не струн звук – но тоже нескучен. Это мирный колдун там шаманит над скрипом уключин. Бьет поклоны реке,
Вадим Крейд 47
едет в лодке за маслом и хлебом, и за ним – вдалеке бронзовее вечернее небо. И молчанья печать – только струны небесные тихо начинают звучать, там, где нет ни фортуны, ни лиха. Рокотанья струны отражались в багрянце закатном, в глянце черной волны, в горизонте квадратном. * * * * * Осени поздней раскрытая книга, Времени легкий томительный бег. Черные ветки и сеющий снег Преображаются в стройности мига. Может тот миг не отсюда явился – Проще единства, единством и прост – То ли он яблоком с древа свалился, То ли из семечка древом пророс. * * * * * Смеркается... В небе над нами Плывет караван облаков. Закатом расцвечено знамя Ушедших в пространство веков То музыкой лунного света, То шорохом желтой листвы... И даже не нужно ответа Иного, чем выкрик совы. Зачем же, как ножик, моторка Взрезает озерный простор... И молча ты смотришь с пригорка За дальний рыбацкий костер.
48 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
* * * * * Ехал домой привычной дорогой. Благость в природе, вечерняя лень. И у обочины, вижу, безрогий Полулежит сбитый олень. Вроде бы пригород, вроде просторно. Семьями бродят – в сад забредут... Как он смотрел, светло и упорно Несколько вечных последних минут! * * * * * Вешний день, вишневое цветенье и круженье пчел, самое простое поученье заново прочел. Май весны, и сад благоухает, вот уже сирень лепестки под солнцем распускает – и лиловей тень. Самая неспешная затея – лечь в тени, в траву, на шмеля мохнатого глазея, сочинить строфу про шмеля, сирень, цветенье вишни, вот про этот час, зная, что глядит на нас Всевышний и что любит нас. * * * * * На закате алою игрою Позолочен лес и освещен, Но летучей мышью над водою Ум, как высшей целью поглощен. Облако над речкой праздно реет, Пчелы полетят к себе в дупло, Ветер то повеет, то сомлеет И земле отдаст свое тепло.
Вадим Крейд 49
Но летучей мыши над водою Ты полет неправильный следишь. И над утихающей землею Разметалась сладостная тишь. * * * * * Паутинка сверкает – и каленая хрупконогая осень хрустит, встав на цыпочки, светлыми кленами потянулась в невидимый скит. Что же ты? узнаешь ли заветную, недоступную для пустяков, бесполезность свою, чуть приметную, паутинкой на кровле веков? * * * * * Тишина – копилка дальних звуков, всплеск в реке, далекий самолет… В неподвижном воздухе разлука непостижно тонкая живет. Мысль уходит за свои границы – или не был запечатан круг? – и сознанье чистую страницу наудачу раскрывает вдруг. * * * * * Когда взлетишь за тридевять земель в густой листве, в зеленые просветы, присвиснет вслед хохлатый свиристель над набережной незабвенной Леты. И отпадут заветы и запреты, ума палаты, мысли канитель, и памяти особые приметы садятся на невидимую мель.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 50-54.
Игорь ДЖЕРРИ КУРАС Бостон, США
* * * * *Среди чужих людей, вблизи своих деревьев,навязчивый, как дождь, невыездной, как дом,безумный, точно Лир, насмешливый, как Тевье –смотри, как я едва, отметь, что я с трудом.Как мёртвая эмаль старушечьей финифти,холодный небосвод вмонтирован в карниз.Спроси меня: «Куда?» Замешкавшийся в лифте,не назову этаж – не знаю: вверх ли, вниз.Скажи мне, для чего с нас взяли не по чину?Что голос заводной твердит о полпути?Что в этой воркотне? Дай хоть одну причину –и спеть, и жизнь прожить,и поле перейти.
* * * * *Пока я спал, всё снегом занесло:я вышел посмотреть на то, как снегомвсё занесло, и спутал землю с небом,и растеряв слова, стоял без слов.Вот снег, и снег: и края нет, – кроя,вдоль-поперёк которого мы бродимс тобой на пешеходном переходе –с земли на небо, милая моя.Так всё внезапно снегом занесло,что смыслы потерялись в переводе:и то, что было словом – стало вродебы и не словом, а, скорей, числом.Числом, в котором снова на вокзалспешить с утра. Ты радовалась знакам,всё перемножив. Я, сложив, заплакал:хотел сказать тебе, но промолчал.Ты выдумала мир, в котором яне помещался, спутав землю с небом,но я проснулся – всё покрыто снегомс земли до неба, милая моя.
Игорь Джерри Курас 51
* * * * *Не бойся ничего. Мне страшно самому.Щербленная луна опять кривится в кашле,но отражённый мир в ночном окне – не наш ли?А тот, что за окном, – не вторит ли ему?Не бойся ничего: похоже по всему,что с темнотой давно заводит время шашни,и часовые сна не стерегут на башнечасы, а всё идут. Идут по одному.Не бойся ничего. Хотя до слёз проймутебя тоской о том, какой я тоже зряшный,что жарко и темно, как в битве рукопашной –и не забрать с собой ни сумму, ни суму.Не бойся ничего. Я тоже не пойму,что силится ожить в наброске карандашном:попробуй толковать! Сгорает день вчерашний,и мы, в который раз, не плачем по нему.Не бойся ничего. Наверно, потому,что мысли не страшны, а домыслы не страшны.В истошной тишине – все звуки бесшабашны.Не бойся, ничего. Мне страшно самому.
ЧУЖОЙ СОН
Теплушки. Холодно. Старухи. Вокзал (название забыл), – и мы стоим, сжимая руки до хруста. Из последних сил. Убрав со лба платок пуховый, ты торопливо говоришь, но я смотрю, как бестолковый на губы белые твои. Оборванными проводами продрог, заиндевел, застыл последний час, и перед нами вокзал (название забыл). За полотном, в дыму котельной, раскрытый, будто напоказ – неровный ров, где я расстрелян, родившись в предыдущий раз.
52 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
НЕПАМЯТНИК
Я памятник себе – и больше никому. Любезен буду тем, но нелюбезен этим. Пусть зарастёт ко мне, и прорастёт вокруг – там, с высоты столпа, никто и не заметит. Приподнялись над всем ночные этажи: кто требовал винца, кто торговал венцами. Я тот, кто просто жил – любовью дорожил, оспаривал глупца с такими же глупцами. И в мой жестокий век, и в твой жестокий век, и в наш жестокий век – все звёзды нам мерцали, но – беспробудным сном утяжелённых век не пробудил ни ты, ни я, ни те, что с нами. Не финн, и не калмык, не гордый внук славян – сам по себе стою, не вылепленный в глине, не в бронзе отлитой, не в камне изваян – не во главе угла, и не посередине.
* * * * *Есть только облака и чернозём –и тонкая прослойка между ними,где мы с тобою связаны узломс такими же червями дождевыми.Ты скажешь: участь? Отвечаю: часть –частицей быть, коротким междометьем;из грязи в князи – и обратно в грязьрассыплемся, сплетясь – и не заметим.Ты скажешь: прочерк? Отвечаю: честьбыть между двух разрозненных вселенных,скрепляя их с червями вместе здесь,где облака и чернозём мгновенны.Вот я дышу – и ты дыши пока,и пусть другие дышат вместе с нами,связуя чернозём и облакана краткий миг надёжными узлами.
Игорь Джерри Курас 53
* * * * *То гальки гладь, то ракушек разводы –воды сиянье, и деревьев тени;и мысль о том, что выродки природы,здесь только мы: все остальные – в теме.И босиком болезненно вдоль краяидти, идти, и видеть рыбьи стаии птичьи стаи видеть, понимая,что сбиться в стаи – суета пустая.Что хочешь ты найти за тростниками?Какие ждёшь несбывшиеся тайны? –там только голый берег, пресмыкаясь,склоняется к воде горизонтальной.То гальки гладь, то ракушек разводы –и холодно ногам, и с непривычкине только ветер, но весь мир разорван,где рыбьи стаи дразнят стаи птичьи.И босиком болезненно вдоль краяпройти, исчезнуть, не имея смысла –как выкидыш отравленного раяни здесь, ни там – нигде уже не числясь.
* * * * *Здесь нехотя – едва – нам выпадает чудо:на цыпочки привстав, как сосны на песке,внезапно осознать, что улететь отсюдане выйдет и у них – и не истлеть в тоске.Я был такой как все, а ты была другая,и мне пришлось прожить две жизни наугад –и вот, одна из них зачтётся мне у края;а если сразу две – кто будет виноват?Легко ли облакам всё принимать на веру:не думать о траве, где выпало дождёмрассыпаться? Тогда – не должен ли примеруих следовать и я, и всякий, кто рождён?И зная наперёд, что просьбы неуместны –над пасмурной землёй, пока встаёт рассвет –я о тебе прошу у полосы небеснойи дерзновенно жду, что получу ответ.
54 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Елена Краснощекова. Москва. Россия. «В огне чувства». Бумага, тушь.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 55-58.
Aнатолий ЛИБЕРМАН Миниаполис, США
ИЗ ЦИКЛА «ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЬЕ»
I
Ну, какой я танцор? Этот медленный джаз Наполняет все тело истомой. Сбился с такта? Прости. Не учи, не сейчас! Мы впервые танцуем не дома: Ни улыбок друзей, ни родительских глаз... Им давно упоенье знакомо, Но сегодня о нас этот древний рассказ, И я двигаюсь, будто сквозь дрему. В безграничность уносит мой дух саксофон – Вспышка, взрыв, мирозданье распалось. А теперь не спеши. Музыкант укрощен: Слушай тихую музыку пауз.
II
Нет, не надо, не приходи. Зачем мне видеть тебя, седую? Те невстречи давно позади. Я и так на себя негодую, Что не бросил вызов судьбе, тебе (Или что там бросают? Перчатку?) Но перчаток-то было, на горе, две. Не стоит вспоминать по порядку. В суматохе бегущих дней Черно-начерно волосы выкрась, А любовь та, как камень на дне, –Не отнять ее и не выкрасть.
III
Так это были вы? Как повезло мне, Что я вас не узнал. Семнадцать лет, Начало жизни, чувства на изломе,
56 Поэдия: Russian Poetry Past and Present
А в голове влюбленный винегрет. Смешная штука — жизнь. Сегодня майна, А завтра вира. Дикие слова. Нет, жизнь не бал, где «тайна» и «случайно», А пир взбесившегося естества. Простите, что на вы. Иной сценарий: Прошло так много лет, так много зим. От них остался слабый запах гари И папиросы ядовитый дым. Что может быть скучней, чем вечер встречи, Грустней, чем щепки от давнишних стрел? Задуй без слез мерцающие свечи И радуйся: подсвечник не сгорел.
Я не узнал тебя. Лежат альбомы: Любимых и любивших хоровод – Прямых дорог нежданные изломы, Мороз и жар, падение и взлет. Не обижайся. Я себя едва ли В застывшем пантеоне нахожу. Неужто это я в той смутной дали Переступил заветную межу? А это ты? Вчера лишь в школьной форме На зрелость ты сдавала аттестат; Еще не зная о грядущем шторме, Ты даришь мне полусмущенный взгляд. Такой ты и осталась – половинной: Исходит свет, но не силен накал. И нынче я пришел к тебе с повинной. Прости: пришел, увидел, не узнал.
IV
– Ты все еще любишь незабытую, первую?– Что ты, нет! Да и была-то она второй.Прошлому я давно ничего не жертвую –Лишь иногда прогоняю себя сквозь строй.Возношусь и срываюсь в преисподнюю заново,Счастливейший и несчастнейший из людей,А когда опускается занавес,
Анатолий Либерман 57
В одном лице герой и злодей. Диву даешься: зачем, к чему это? Жил себе, как барс, по ночам кость грызя, Ни о чем не грезя, не слишком суетно, Но чего-то, наверно, забыть нельзя. Первая, вторая – всё в назидание; Порой по привычке рассуждаешь, шумишь. Так среди обломков старого здания Ищет крошек слепая мышь.
V
Любимая, скажи, когда, за кем Ты, как в романах, следовала тенью? Не веря твоему грехопаденью, Я не касался этих скользких тем. Любила ты? Нет, это не слова. Тот обморок, что мир зовет любовным, Когда и лев смиренно блеет овном, А робкий заяц разрывает льва, Ты знала ли его? Вопрос мой не упрек (И мне ль хвалиться смертоносным раем?); Твой остров глухоты необитаем, Но глухота – беда, а не порок.
Кто не любил хоть раз, тот, как кастрат: Слинявший ястреб с голосом цыпленка, Провал в стене, засвеченная пленка – Ни выигрыша, ни роковых растрат. Но, может быть, природа, ловкий плут, Творя людей и вещи самосудом, Одних пустила в мир пустым сосудом, А остальным не пожалела пут.
Бездонной амфоре к чему струя? Любимая, цени свою беспечность, И пусть уйдут в дурную быстротечность Мои стихи и проповедь моя, Как сгинули любовники, мужья И воздыхатели, пропавшие бесследно.
58 Поэдия: Russian Poetry Past and Present
Лишь пустоту не поглощает бездна: Она одна – сестра небытия.
VI
Письмо. У Икса умерла жена. Мы были с ней знакомы, но не близко. Связала нас на годы переписка С ним. Жаль. Я думаю, она одна Мне подошла бы в молодости в жены, Но молодость и зрелость позади. Лишь изощренный вкус, как в годы оны, Чуть дотлевает угольком в груди.
Последний уголек. Последний луч Бросает свет на выжженное поле – Эскиз всечеловеческой юдоли, Где все несчастны, а один везуч. Пусть будет так. Сегодня плачет Икс (Не я расстался с жизнью и любовью), Но встреча будет: скорбь вдовца ли, вдовью – Омоет все неторопливый Стикс.
VII
Всё чаще женщины преследуют меня, Которых я преследовал когда-то. Теперь и я, себя достойным возомня, Могу подумать: «Вот она расплата». Напрасный труд! И прав был старый, мудрый Финн, Искатель чар и приворотных зелий. Приходит к нам любовь стареющих Наин, Изведавших тоску других постелей. И странно наблюдать расчетливый конец, Толкучку там, где был любовный рынок. Так смотрит, всплыв, отнерeстившийся самец На игры погибающих икринок.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 59-63.
Нора ФАЙНБЕРГ Филадельфия, США
* * * * *Что делать нам, когда зимаиз льда сплетает кружеваи кружатся метели?Что делать нам, когда зима
дороги снегом замела на длинные недели? И только видны из окна кусты в чехлах из полотна,
в лебяжьем пухе ели. Что ж делать, коль пришла зима и седины уже кайма прокралась к нам на темя?
Что ж делать, если вдруг зима нас ветром в сторону смела? И вот уж мимо нас вперёд спешит промчаться в свой черёд другое племя.
ДОМ ВОЛОШИНА
Вернёмся в прошлое, к уступам древних скал, замкнувший узкий берег Коктебеля, где дом Волошина стоит, как и стоял, над морем стенами по-прежнему белея.
Мы в дом войдём, и пусть нас встретит Пра, и будем на веранде в тихий вечер стихи читать друг другу до утра, пока не догорят, погаснув, свечи. Придут поэты, те, которых нет, и сядут рядом у стола в молчаньи,
60 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
скала Хамелеон лиловый цвет заменит к ночи чёрным очертаньем. Мы призраков ночных не отпугнём нечаянным или небрежным словом и, за строкой строку ведя, вернём ушедшие стихи к звучаньям новым. Вернёмся в прошлое, и путь пройдём в стихах так, как брели когда-то пилигримы тропой заросшею почтить священный прах, и силою наполниться незримой. И, наконец, придём к истокам строк, к ним прикоснёмся, как к святыне, и будем пить стихи, как за глотком глоток пьёт воду караван, пришедший из пустыни.
Под утро сменит цвет Хамелеон и станет розовым под заревом рассветным. Исчезнут тени, мы покинем дом и возвратимся к будням неприметным. Но среди дел мы вдруг услышим зов и на какое-то замрём мгновенье, вникая в ритм ещё неясных слов – предвестников стихотворенья.
* * * * *О твёрдости неспелых груш,о кислоте неспелых яблок,жестокости незрелых душ,и сумасбродстве без оглядок.О чём ещё поговорим?О мимолётности горенья,потухшем пламени зари,ночным накрытым опереньем?О поздней завязи цветка,что смят осенним марафоном,о том, как выскользнет рукаиз вдруг разжавшихся ладоней.
Нора Файнберг 61
* * * * *Свечу печали желтой потушить,И не спешить. Пора поставить точку.Друг мне сказал: «Ты помощи не жди,Ведь каждый умирает в одиночку».Но если жизнь – лишь вид белковых тел,И их удел извечный – распадаться,Что вся горячка помыслов и дел?Что наши страсти, наши узы братства?Но если смерть – лишь потайная дверь,Тогда, поверь, в нее войти готова,И, может быть, незримая теперь,Тебя, незримого, я встречу снова.
* * * * *Мой голос слаб, в нем нету меди,Он не взрывает облака.Что оставляю я в наследье,Кроме журчащего стиха?Мой путь земной ещё не кончен,Но гуще с каждым днём печаль.Не потому, что мир непрочныйМне оставлять сегодня жаль,А потому, что в зимней пудреИ в обожжённом летом дне,В осенних вихрях златокудрыхНикто не вспомнит обо мне.
* * * * *И день пройдёт, пройдут и два...Какая в доме тишина!Не скрипнет дверь,Кровать пуста.Нетронутая гладь листаТобой забыта на столе,Проходят стрелки мерно круг,А сердце замолчало вдруг.Влачится день, словно сто лет...И в раме чёрного окна
62 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Полужива, полумертва, Твоя жена, твоя вдова.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПУШКИНУ
«Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон», Болтает он про то, про это И не смолкает телефон. Плетутся сплетни, словно сети, Всё – суета и суета. И нет поэзии, поверьте, Душа поэта заперта. Но посреди пустого спора И ссор по разным мелочам Невидимый другому взору Предстанет мир его очам. И, словно в пятом измереньи, Он переступит тот порог, Где с вечностью слилось мгновенье, И где душой владеет Бог.
* * * * *По клавишам моей судьбыБегут невидимые пальцы.Глаза незрячего судьиОтмерили шаги скитальца.Как распознать последний шаг?Последний вздох и взгляд последний?Чтоб мелких дел не завершать,А важные свершить немедля.И, чтобы главные слова,Те, что нужней всего на свете,Сказать, пока их не сковалМолчаньем вечным панцирь смерти.
* * * * *Ругают или почитают,Иль попросту не замечают,Он пишет, коль душа велит: «Пиши».
Нора Файнберг 63
И над собой свой суд вершит. И ни хула, ни похвала, Ни вежливый бесцветный вздор Не изменяют приговор. Он бросит сам в костёр дрова, И в нём сожжёт себя дотла Не от геройства и отваги, А потому что не смогла Его душа стерпеть слова, Все те неверные слова, Написанные на бумаге.
НА ВЫСТАВКЕ СЕЗАННА
Но выразить словами на листе Иль кистью на холсте, Или мелодией, возникшей вдруг в тиши, Огонь души, Тогда не жаль ночей бессонных, Попыток долгих, монотонных, Ни добровольных отлучений, Уединений и мучений. И уходя навек в дорогу, В край, где предстанем перед Богом, Мы скажем: «Там, в земном пределе, К невидимой стремились цели, И без иллюзий и идиллий Своим судом себя судили». И скажем пред лицом Его: «Мы не просили ничего, Ни пустозвонной маяты, Ни славы суеты, Но выразить словами на листе Иль кистью на холсте, Или мелодией, возникшей вдруг в тиши, Огонь души».
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 64-68.
Рудольф ФУРМАН Нью-Йорк, США
СВЕТ И ТЕНИ
Виталию Амурскому
Прохожие идут и иже с ними шагают тени так, как шли доныне, и будут после, пока есть луна и фонари, сгибающие спины, и свет косой от каждого окна, где есть жильцы, которым не до сна, которые и свет не погасили, лишь потому. что день весь не прожили, не исчерпали свет его до дна.
И хочется взлететь на крыльях тени и заглянуть в то самое окно, где что-то пишет незнакомый гений, и это что-то лишь ему дано и никому иному в мире этом, но этого, склонившись над столом, не знает он, и, под, настольной лампы, мягким светом, самозабвенно пишет о своем.
Рудольф Фурман 65
* * * * *То ветер гонит холод,то непосильный жар.Привык. Уже не молод,но и пока не стар.
Меняются – погода, и люди, и места, и годы, наши годы, но память не пуста.
Уже накоплен опыт прощания и встреч. От бесконечных хлопот себя не уберечь.
Да и беречься поздно и глупо – ни к чему. Живу, пока возможно, у жизни на краю.
* * * * *Вставало утро. Падал снег лениво.и мне казалось, что неторопливымсегодня будет предстоящий день,и люди в нем, и даже свет и теньсоперничать не будут – нет причины.Спешить не станут женщины, мужчиныи поспокойней будет ребятня...Давно не наблюдал такого дня,а потому и я расслаблюсь тоже –куда-нибудь спешить резона нет.Всему свой срок, а в суете негожемне проводить остатки моих лет, –а надо так на эту жизнь смотреть,не упустить чтоб ни одной детали,и в памяти их все запечатлетьлегко, как в детстве их запоминали.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 69-74.
Елена ДУБРОВИНА Филадельфия, США ПРИХОД ЗИМЫ I Какая ночь! В лицо дохнул мороз, Замерзли горы в леденящих вспышках. Закат тяжелый на ступенях вышил Венок из рассыпающихся роз. Прозрачной пленкой снег едва накрыл Кудрявых крыш распластанное тело, Сгорел закат, и небо потемнело В холодной бездне гаснущих светил. Вздохнули ветры, и пошла метель Играть со снегом в дружеские прятки, Оставив только белые заплатки В календаре ноябрьских недель… II Вот луч, запутавшись в капкане, Вверяет свет ночной луне, Закат усыпан марципаном, И холод тянется извне. Заснежен город многоликий, Рассыпан снег как жемчуга. Дыханье ночи, ветра всхлипы, Метет по городу пурга. Но город этот нереальный Вдруг почернел, как свет в окне, В тяжелом зеркале овальном – Бесцветный мир на полотне… И те же ветры замогильно Поют кантату в темпе вьюг,
70
И вечер, смерти равносильный, Впадает в сон под этот звук… III Лежит узорчат и уныл, Зиме покорный тонкий иней, В хаосе бесконечных линий Восход закат предвосхитил. Засохшей ветки легкий свист, Прозрачной ткани воздух блудный, И снег веселый, изумрудный, Как пух на дереве повис. Морозом сотканный узор, – Восходом розовым спаленный. Лежит лазурь, и неспокойна Поверхность девственных озер. Оркестр, сводящий лес с ума, Высокий, тонкий звук скрипичный, И шорох снега непривычный, Как в строчке легкие слова… IV Тоска, закутавшись в пальто, поет о том, что все напрасно, под звук мелодии январской зима и грусть глядят в окно… Снежинок гаснущих хрусталь двоится в воздухе прозрачном, замерзла на античной карте мороза легкая печаль. Струятся сонно в никуда, сосульки по отлогим крышам, как струны скрипки, провода восточный ветр едва колышет.
Елена Дубровина 71
Нездешний свет давно погас, жизнь замерла на полустанке. А сон и явь на узкой планке танцуют свой предсмертный вальс.
V Нарушая покой, чуть слышно Мелкий дождь барабанит в дверь, И стекает легко капель На покрытые снегом крыши.
Заостренным карандашом Пишет ливень картину ночи, И бессонницу мне пророчит, Заглянув в окно нагишом.
Звуки дробью в пустой кувшин, Где-то эхо пропело вяло, И накрыл туман одеялом Шапки горных, снежных вершин…
VI Заговорилась ночь и по ошибке Не уступила места для рассвета. И шар земной, блестящий, как монета, Еще лежал в ладонях ночи липкой,
Когда рассвет стал пробиваться скупо. В тумане гор молочного оттенка Вздымалась утра голубая пенка, И новый день просвечивал сквозь лупу.
Смешались представления границы О жизни, смерти, времени рожденья. И в запоздалом утреннем движенье Прильнули к небу две забытых птицы.
72 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
VII А город спал. В сгущающейся мгле Метались сны удушливо и жадно. И падал снег. И падал беспощадно, Холодным телом прикипев к земле.
Ночная успокоенность плыла, Ее кружил спиралью тонкой ветер. И сквозь узор заснеженный стекла Размытый город был едва заметен.
Два силуэта прорастали сквозь Бессонницы дымящую отраву. И будто сталью припаял мороз К холсту земли обнявшуюся пару.
VIII Скользкое, липкое, утро хрустящее В землю врастает корнями венозными, Страхом крадется, и в бездну летящее, Падает снегом, венчает морозом.
Что-то далекое вспыхнет с рассветом, Как этот миг, затерявшийся в быте, Ветер и память гуляют по свету Вместе с цыганской гитарой забытой,
С сумкой дорожной, где хрупкое время, Сжато сухими корнями бессмертья. Утру навстречу торопится смена – День одинокий на карте столетья.
И от луны на дороге беззвездной В небе остались лишь след полустанка, Длинные тени, сухие полозья, И предсказания старой цыганки...
Елена Дубровина 73
* * * * * Закрыты шторы, двери – на запор, Танцует ветер танго на лугах, И поцелуй холодный на губах Застыл как наш последний разговор. Пространство не измерить, не пройти, Как слепит время, превращаясь в медь! И жизнь моя на запасном пути, На той стоянке, что зовется – смерть. Вечерний снег запорошил порог. Как перейти последнюю черту? Но даже если завтра я умру, Я прожила мне отведенный срок… * * * * * В. С. Луна упала с длинной занавески На край стены, у самого портала, Туда, где раньше тенью проступала Судьба веков во всем старинном блеске. Играет свет на тоненькой ладони, Собор и церковь, вечер угловатый, Как будто перед кем-то виноватый Согнулся ветер, прячась от погони. А высоко над городом повисли Ночные звезды, утонув в тумане. Остались недосказанные мысли В старинном, неоконченном романе. Но все еще шуршат его страницы, Измятые, как листья под ногами, В забытом парке музыкой струится Печаль души, живущая веками…
74 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Сергей Пашков, г. Костомукша, Россия. «Древо жизни». Холст, масло
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 75-79.
Виталий АМУРСКИЙ Париж, Франция
* * * * *Приамурской тайги мнеАромат незнаком,Что ж туда, в ностальгии,Я качусь колобком?
Нет оттуда мне зова, Где рассвет золотой, – Просто детство отцово Греет память золой.
И оттуда, из Брянских, Материнских земель, Тянут стебли по-братски И подсолнух, и хмель.
* * * * *Уходят пилигримами года,Скрываясь в звёздных далях и руинах, Но нет путей, чтобы вели туда,Где от отцовских рук тепло струилось.
От правой – женской, от другой – мужской, Как на холсте великого голландца, Когда любовь, прожженная тоской, Прощать умела многое авансом.
Пусть верит блудный сын: Нева всё та ж И Летний сад хорош не только летом, И златом рам мерцает Эрмитаж, Шурша сукном по праздничным паркетам.
Однако и к востоку, и на юг От тех, Петром заложенных, устоев, В лесу безмерном птицы не поют, Да поле сжатой памяти – пустое.
76 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
* * * * * Что ни день, то тревога,
Что ни месяц – беда, То к обрыву дорога, То чёрт знает куда. В вихре стольких насилий В ныне путаный год Горько ль мне за Россию, Власть её и народ? По-другому б спросили, Я сказал бы в ответ: Власть и люди в России – Не синонимы, нет. А «единство» меж ними – Чепуха для толпы. Только в сказках смешные И купцы, и попы. Жизнь – реальность иная, И подчас не они ль, Лучших в ней распиная, Пели: «Боже... храни!..»? Впрочем, рядом ужиться С хором этим могла И правдивость мужичья, И души его мгла. Осуждаю кого-то, Исключая себя? Русский я, но холопом Не был в жизни ни дня. Русский – в чём-то раздвоен, В чём-то не без «авось», Тот, подчас, в ком раздолье С несвободой слилось. Уважаю ль Россию? Тут иное, скорей.
Виталий Амурский 77
Я – из трав, что скосили, Отрубив от корней. Только в памяти часто – Поле то, та земля, Где я рос и качался, Птиц и небо любя. Никогда не гадаю Про толпу и про власть. Верю – жизнь негодяю Всё, что должно, воздаст. Верю в волю и разум, Верю в совесть и честь, В то, что всё-таки Разин В ком-то там ещё есть! Может быть, ошибаюсь. Значит, это не в счёт. Вера – струйка живая, Всё живое – течёт. Уважение, горечь – Чувств кружащийся рой... Сам с собой не поспоришь, Но я спорю порой.
2014 * * * * * Одним – земля сырья, другим – края сказаний,
А для меня – печаль, как в поле чистом, Но всё-таки бесстрастными глазами Россию видеть я не научился. Она во мне вот тут, слегка левее, Ну, да – вот тут, под майкой и рубашкой, Как в книжке меж страниц попавший клевер В соседстве с васильком или ромашкой.
78 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Инна Лазарева. Филадельфия. США. «Женский портрет». Уголь.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 80-84.
Наталья КРОФТС Сидней, Австралия * * * * * Остатки снега с черепичных крыш прозрачным языком февраль слизал. Флоренция. Туман. Из тёмных ниш на нас глядят белёсые глаза. Насмешливо: для них давно не нов наш юный мир из разноцветных снов, из первых путешествий – Рим-Париж, из твёрдой веры в истинность афиш – прекрасный вид, открыточный закат… из первой безболезненной любви – наверное, последней. А пока в своей беспечной, эфемерной вере над Арно мы с тобою кофе пьем, в постылой нише бледный Алигьери вздохнёт – и с грустью вспомнит о своём. * * * * * Мне не уйти из психбольницы. Ты в ней – и вот она в тебе – клокочет, рвётся на страницы и шарит лапой по судьбе, куда б тебя ни заносило – в край небоскрёбов или скал – ты возле солнечной Мессины увидишь бешеный оскал чудовищ – нет, не тех, из книжек – своих, придуманных тоской, толпой, тебя несущей ближе к безумью дней, к огням Тверской. И будто всё отлично с виду: умыт и трезв, идёшь в театр – но чувствуешь: с тобой в корриду весь день играет психиатр. Или в музеях строгой Вены
Наталья Крофтс 81
бредёшь меж статуй героинь – а врач решит – и резко в вены введёт любовь, как героин. Спокойней – в домике с охраной, решёткой, каменной стеной, где мне зализывают раны – чтоб не осталось ни одной, где нет ни долга, ни заботы, ни вин, ни бед… Халат надеть и от субботы до субботы на подоконнике сидеть и издали смотреть на лица толпы, на улицу в огне. А рядом Гоголь отразится в забитом намертво окне. * * * * * Я уже не пойду за тобой. Пахнет дымом. Морозно. Повторяет уставший прибой: «слишком поздно». Паутина, незримая нить обрывается – медленно, странно, словно нехотя. Грусть хоронить слишком рано. ARS POETICA Я ослеп. Измучился. Продрог. Я кричу из этой затхлой бездны. Господи, я тоже чей-то бог, заплутавший, плачущий, небесный. Вот бумага. Стол. Перо и рок. Я. (больной, седой и неизвестный) Но умру – и дайте только срок, дайте строк – и я ещё воскресну.
82 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
* * * * *На развалинах Трои лежу, недвижим,
в ожиданье последней ахейской атаки Ю. Левитанский
На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки. Закурю папироску. Опять за душой ни гроша. Боже правый, как тихо. И только завыли собаки да газетный листок на просохшем ветру прошуршал. Может – «Таймс», может – «Правда». Уже разбирать неохота. На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота. Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может... Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит, всё запишет, поймёт – и потреплет меня по плечу. А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою. За потомков моих – тех, что Трою когда-то отстроят, и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех, что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех – и пошлют умирать – нас. И вас... Как курёнка – на вертел. А пока я лежу... Только воют собаки и ветер. И молюсь – я не знаю кому – о конце этих бредней. Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.
* * * * *Вслепую, наощупь,судьбу подбираем по слуху,научно трактуем причудыпланид и планет.Подводим итоги.Как взрослые – твёрдо и сухо.По-детски надеясь на чудо.Которого нет.
* * * * *Молча бродить по городу, понимая –ты уже умер, ты уже – там, в раю.Вдруг дорогу перебегает немаякошка, цвета осени.Ей даютюжные фрукты –манго и мангустины –
Наталья Крофтс 83
рвут их с осины, синей от тишины… Сны так нелепы – даже когда красивы. Химеричны. Ассиметричны. Нужны.
* * * * *Отключить телефон, оборвать пуповину шнураинтернета,и понять: ты один. Ты один. Остальное – игратьмы и света.Ты – в забытом лесу, и от страха плетёшьнебылицы.Сквозь предсмертную дрожьты твердишь себе ложь –в ожиданье тепла,перелома,чудес...или просто – когда ж этот леспрекратится.
* * * * *Я – жёлтый листик на груди твоей.Меня на миг к тебе прибило ветром.Вот и конец. И не найти ответа,зачем в тиши изнеженного летаподнялся ветер и, сорвав с ветвей,мне дал на миг прильнуть к груди твоей.
84 Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015)
Инна Лазарев. Филадельфия. США. Портрет Вл. Маяковского. Уголь.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 85-89.
Андрей КНЕЛЛЕР (Andrey KNELLER) Бостон, США
ПЕРЕВОДЫ
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
* * * * *Моим стихам, написанным так рано,Что и не знала я, что я – поэт,Сорвавшимся, как брызги из фонтана,Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, – Нечитанным стихам! –
Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.
Май 1913
* * * * *My poems, written early, when I doubtedthat I could ever play the poet’s part,erupting, as though water from the fountainor sparks from a petard,
and rushing as though little demons, senseless, into the sanctuary, where incense spreads, my poems about death and adolescence, – that still remain unread! –
collecting dust in bookstores all this time, where no one comes to carry them away, my poems, like exquisite, precious wines, will have their day!
May 1913
86 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
ОCИП МАНДЕЛЬШТАМ ЛЕНИНГРАД Я вернулся в мой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, – так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей. Узнавай же скорее декабрьский денек, Где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать: У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, По которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных.
1930 LENINGRAD I‘ve returned to my city, it’s familiar in truth To the tears, to the veins, swollen glands of my youth. You are here once again, – quickly gulp in a trance The fish oil of Leningrad’s riverside lamps. Recognize this December day from afar, Where an egg yolk is mixed with the sinister tar. I’m not willing yet, Petersburg, to perish in slumber: It is you who retains all my telephone numbers.
Андрей Кнеллер 87
I have plenty of addresses, Petersburg, yet, Where I’m certain to find the voice of the dead.
In the dark of the staircase, my temple is threshed By the knocker ripped out along with the flesh.
All night long, I await my dear guests like before As I shuffle the shackles of the chains on the door.
1930
АННА АХМАТОВА
* * * * *Ночь моя – бред о тебе,День – равнодушное: пусть!Я улыбнулась судьбе,Мне посылающей грусть.
Тяжек вчерашний угар, Скоро ли я догорю, Кажется, этот пожар Не превратиться в зарю.
Долго ль мне биться в огне, Дальнего тайно кляня?... В страшной моей западне Ты не увидишь меня.
1909, Киев
* * * * *My night – I think of you obsessively,My day – indifferent: let it be!I turned and smiled at my destinyThat brought me only misery.
The fumes of yesterday are dire, The flames that burn me will not die, It seems to me, this blazing fire Will not become a sunlit sky.
88 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Shall I endure without conceding, And curse you for not being there?... You’re far away. You’ll never see me Imprisoned in my awful snare.
1909, Кiev ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ * * * * * Уже второй… Уже второй должно быть ты легла В ночи Млечпуть серебряной Окою Я не спешу и молниями телеграмм Мне незачем тебя будить и беспокоить как говорят инцидент исперчен любовная лодка разбилась о быт С тобой мы в расчете и не к чему перечень взаимных болей бед и обид Ты посмотри какая в мире тишь Ночь обложила небо звездной данью в такие вот часы встаешь и говоришь векам истории и мирозданью * * * * * Past оne о’clock… Past one o’clock. You’re probably in bed The Milky Way streams like the silver Oka I won’t send wild telegrams. I don’t intend to trouble you and vex you any longer and now, as people say, our case is closed the boat of love could not endure the grind We’re even now. And there is no remorse let’s not bring up the sorrows left behind Behold what hush has fallen on the ground The night awards the sky with constellations at times as these, you rise and speak aloud to ages, histories and all creation.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 90-97.
Дмитрий БОБЫШЕВ Урбана-Шампэйн, США
ОКО АХМАТОВОЙ
Прошло более полувека со времени нашего знакомства с Ах-матовой, и теперь уже трудно рассказать что-то новое о ней, что не повторяло бы мемуары других её современников и друзей. Не хочется повторяться и самому, ссылаясь на уже напечатанные главы из воспоминаний. Поэтому я хочу поделиться лишь неко-торыми чертами её облика и личности, которые, как мне кажется, ускользнули от многих описаний, включая и мои собственные. Мы познакомились с ней («мы» – это небольшой круг поэтов, в который вместе с Найманом, Рейном и Бродским я включаю и себя) в самом начале 60-х, когда ей было уже за 70. Её имя было овеяно недавней опалой, на неё падала тень партийного поста-новления, что, конечно же, отпугивало многих. Но наши мнения уже тогда значительно расходились с официозом: знакомство с ней и дружба, которой она одаряла, воспринимались как большая жизненная удача. В этом была и доля бравады, – «вы», мол, её грубо оскорбляли и лишали хлебных карточек, а мы ей подносим цветы и стихотворные посвящения. О том, как я познакомился с ней, о первых впечатлениях и дальнейших встречах я уже расска-зывал в книге воспоминаний «Я здесь», о том же говорится в ме-муарных заметках Евгения Рейна и в книге «Рассказов о Анне Ахматовой» Анатолия Наймана, так что я отсылаю читателей к этим источникам. Скажу лишь, что рекомендовал познакомиться с ней сам Борис Леонидович Пастернак, которого мы с Рейном однажды посетили в Москве в августе 1956 года, будучи ещё сту-дентами. Мы встречались с Ахматовой – вместе или порознь – то в Ле-нинграде, где мы все жили, то в Москве во время наездов туда или летом в Комарове, где Литфонд предоставлял ей скромный летний домик, который она иронически называла «Будкой». Я думаю, для каждого из нас это была удача, но не случай-ность: видимо, что–то близкое себе она в нас находила. Общими были, например, отторженность от печати, идеологическая кри-тика, искажённые цензурой случайные публикации. Впору было отчаяться, и признание Ахматовой стало мощной поддержкой. А её стихотворные посвящения стали благословением на всю даль-
Дмитрий Бобышев 91
нейшую жизнь. Кроме того, через Ахматову осуществлялась пре-рванная связь времён: она принадлежала ведь одновременно и Серебряному веку, и современности. В общениях с ней чувство-валась и вся громада Мировой культуры, по которой испытывал тоску Мандельштам, а за ним и все мы, родившиеся на её отрогах. Конечно, Ахматова учила на своём примере, но лишь тех, кто хотел и умел у неё учиться. Её стихи были высоким образцом поэзии, что позволяло ей вести диалог с Данте, Горацием и даже с древнеегипетскими писцами, которых она переводила на рус-ский. Её жизненная позиция как нельзя полнее следовала пуш-кинскому завету: Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспаривай глупца. Я полагал, что она учит достоинству – и человеческому, и це-ховому, поэтическому. Бродский считал, что её урок – это вели-чие. Но среди своих она бывала проста и благожелательна, одна-ко во всём чувствовался масштаб её личности. Действительно, ей была свойственна благородная осанка, своеобразная медленная грация движений, но мне кажется, что та царственность, которую замечали при поверхностном общении многие (и порой воспри-нимали критически) была защитным обличием, обороняющим от очернительства, от глумления, которому её подвергали столь час-то… Догадываюсь, что и мы были нужны Ахматовой: она проверя-ла на наш молодой вкус свою работу над большим стилем, над крупными формами. Например, она мне – единственному слуша-телю! – однажды прочитала всю «Поэму без героя». Ей было важно узнать, как воспринимается на свежий слух последняя, са-мая полная версия поэмы. Впечатление было сильнейшее, как от настенной фрески «Страшного суда», – по-моему, именно эти слова я пробормотал ей, когда она закончила чтение. Почти каждая встреча в последние годы её жизни мне вспоми-нается как содержательная беседа «о самом главном», то есть о литературе, о поэзии, о прошлом и настоящем. О пустяках гово-рить с ней как-то не подобало, зато её литературные суждения бывали необычайно вескими и острыми. И обязательно звучали стихи. К тому времени Ахматова разработала свой особый позд-
92 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
ний стиль, отличный от прежнего, – я бы назвал его «прекрасной сложностью», в отличие от «прекрасной ясности» акмеизма. Так была написана, без преувеличения сказать, грандиозная «Поэма без героя»; в подобном же стиле, буквально у нас на глазах, со-здавался сравнительно короткий цикл «Полночных стихов». Эти стихи прочитывались как любовный и драматический по смыслу диалог, происходивший сразу в нескольких временных слоях с неким прототипом, который тоже как бы расслаивался. Получал-ся неожиданный эффект: некоторые строчки казались адресован-ными прямо к слушателю, а другие уводили к иным адресатам. Поэтому смысл стихов ритмически пульсировал от более ясного к более таинственному. Многие образы этого цикла говорили о перенесённом опыте страдания, как например, такие строки: … И глаз, что скрывает на дне Тот ржавый колючий веночек В тревожной своей тишине. Под этим «веночком», конечно, подразумевался «терновый венец» – евангельский символ земных страстей, но почему и как она поместила его в своё око? Размышляя над этим дома, я к сво-ему удивлению осознал, что не могу припомнить, какого цвета глаза, в которые я глядел, слушая это стихотворение. И вот в одну из следующих встреч с Анной Андреевной я по-старался неназойливо, но пристально приглядеться к её глазам, – специально, чтобы запомнить их навсегда. И запомнил, что глаза её – серые с зеленоватым оттенком и с более тёмной окантовкой по краю радужной оболочки. А вокруг зрачка – карие вкрапленья, то соединённые, то чуть разрозненные, но определённо склады-вающиеся в тот самый «ржавый колючий веночек»! Раз уж я описал глаза Ахматовой, надо сказать и о её улыбке. Улыбаясь, она складывала губы так, что они превращались в по-лумесяц, наподобие того, как это делают музыканты, поднося ко рту свой инструмент. Об этом я вспомнил, когда писал мадригал Ахматовой (а мад-ригал, как известно, это куртуазное восхваление Прекрасной Да-мы). Тем не менее, в этой стилизованной форме чувство восхи-щения было глубоким и совершенно искренним. Я ожидал, что
Дмитрий Бобышев 93
«Прекрасная Старая Дама» (так назвал её позднее Найман) при-мет такое воспевание с улыбкой:
О, как Вы губы стронете в ответ, Прилаживаясь, будто для свирели. Такой от них исходит мирный свет, Что делаются мальчики смиренны... Я уже не раз рассказывал, что с этими стихами я преподнёс ей пять роз. Об этом упоминается и в мемуарах Анатолия Наймана, – он приводит слова Ахматовой о пятой из них, которая «творила чудеса, чуть не летая по комнате». Главным из чудес оказался её ответ «Пятая роза», что стало для меня лучшей литературной на-градой. Я это пересказываю затем, чтобы приблизиться к тому, что было главным и в моих стихах, и в её ответе. Ключевым сло-вом было «любовь». Но... Как написано в «Пятой розе»: А те другие – все четыре Увяли в час, поникли в ночь, Ты ж просияла в этом мире, Чтоб мне таинственно помочь. … И губы мы в тебе омочим, А ты мой дом благослови, Ты как любовь была... Но, впрочем, Тут дело вовсе не в любви. «Тут дело вовсе не в любви» – за эту строчку я отдельно по-благодарил Ахматову письмом, потому что она, отклоняя одно, предлагала нечто другое, не менее значительное, а именно – еди-нение с ней в слове, в словесности. Немало времени прошло с тех пор, а некоторые жизни цели-ком уложились в эти сроки. Но Ахматову по–прежнему читают, она по–прежнему ведёт свой душевный и сердечный диалог с от-дельной личностью и – одновременно – с огромной националь-ной аудиторией. И более того – с интернациональной. Я много лет преподавал русскую литературу в Иллинойсском университете – колоссальном культурном и научном центре Среднего Запада. Главный кампус университета расположен в
94 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
сдвоенном городе Урбана–Шампейн к югу от Чикаго. Это зелё-ный город с большими деревьями и прудами, окружённый куку-рузной прерией; в нём хорошо учиться, учить и вообще пребы-вать. Один из моих курсов «Русский модернизм» был целиком по-строен на поэзии Ахматовой, благо что я участвовал в издании самого полного на тот момент собрания её стихотворений в пере-водах Джудит Хемшемайер. Тогда же вышла и биография «Поэт и пророк», написанная Робертой Ридер. Ещё одной составляю-щей курса была прекрасная книга Анатолия Наймана, переведён-ная на английский. Этого уже было достаточно для содержатель-ных занятий, но тем временем вышли новые книги об Ахматовой – её биография, написанная Элейн Фейнштейн и «Анна Ахматова в 60–е годы» Романа Тименчика, которые стали отличными посо-биями для моих лекций! Долгая творческая жизнь Ахматовой помогла сопоставлять её поэзию со многими литературными явлениями ХХ-го века вплоть до соцреализма, идеологической критики и цензуры. Я так и обо-значал тематические разделы курса: «Ахматова и символизм, Ахматова и акмеизм, и – футуризм, и – Союз писателей, и – ре-прессии, и – Война...». И – так далее, вплоть до хрущёвской отте-пели и литературы 60-х, куда я включил стихи моих литератур-ных собратьев, в том числе и собственные «Траурные октавы». Лучшие курсовые работы студентов были приняты в качестве экспонатов Музеем Ахматовой в Фонтанном Доме. Моё отношение к ней не изменилось с годами: преклонение и (тут я всё-таки не соглашусь с Ахматовой) любовь к ней, к её по-эзии были тогда и остаются сейчас. Заниматься играми в пере-оценки совершенно незачем – кто «первей», кто «гениальней»? – Мандельштам? Цветаева? Пастернак? Это бесплодные, никчем-ные споры, потому что все они несравненны. Я вспоминаю один ахматовский совет. Она убеждала не превращать первоклассных поэтов в чучела, наподобие диванных валиков, чтобы избивать ими друг друга. Это так точно! В «диванный валик» покушались превратить и её саму, – даже спустя десятилетия после доклада Жданова откуда-то и зачем-то появляются вульгарные пародии, попытки «деконструировать» Ахматову... Между тем, сбросить Ахматову со счетов невозможно. Даже сквозь перевод она говорит с читателем «от сердца к сердцу».
Дмитрий Бобышев 95
Написанные сто лет назад строчки дышат сиюминутной свеже-стью, а «прекрасная сложность» её поэм оказывается непосиль-ной для подражателей и подражательниц.
Июнь 2014 г.
АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ Ещё подыщем трёх – и всемером, диспетчера выцеливая в прорезь, угоним в Вашу честь электропоезд, нагруженный печатным серебром. О, как Вы губы стронете в ответ, Прилаживаясь будто для свирели... Такой от них исходит мирный свет, что делаются мальчики смиренны. И хочется тогда, корзиной роз роскошно отягчая мотороллер, у Вашего крыльца закончить кросс и вскрикнуть дивным голодом Тироля: Бог – это Бах, а царь под ним – Моцарт, а Вам улыбкой ангельской мерцать. И будто бы моторов юный гром, и словно этих роз усемиренье, не просится ль тогда стихотворенье с упоминаньем каждого добром? Дмитрий Бобышев 1962 г. Ленинград — Комарово
96 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Анна Ахматова ПЯТАЯ РОЗА Дм. Б<о6ыше>ву Звалась Soleil* ты или Чайной И чем еще могла ты быть?... Но стала столь необычайной, Что не хочу тебя забыть. Ты призрачным сияла светом, Напоминая райский сад, Быть и Петрарковским сонетом Могла, и лучшей из сонат. А те другие – все четыре Увяли в час, поникли в ночь, Ты ж просияла в этом мире, Чтоб мне таинственно помочь. Ты будешь мне живой укорой И сном сладчайшим наяву... Тебя Запретной, Никоторой, Но Лишней я не назову. И губы мы в тебе омочим, А ты мой дом благослови, Ты как любовь была... Но, впрочем, Тут дело вовсе не в любви. Нач<ато> 3 августа (полдень), под «Венгерский дивертисмент» Шуберта. Оконч<ено> 30 сентября 1963 Комарово. Будка. _____________ *Soleil - солнце (фр.).
Дмитрий Бобышев 97
ПАМЯТНИК В СНЕГУ Анна! Опять она молодая, вполоборота, и – о печаль – шаль её бронзовая, ниспадая, обнажает бронзу плеча. Плеча ль, ключицы, всей стати, или сам голос, наверное, бронзой стал, и былые слёзы её отлились в слова, в славу, в этот металл. Вон там, напротив, она стояла с передачами (сын – в Крестах), и застывало клеем столярным время тягучее, течь перестав. Но внезапно прошли века… И – тысячелетия! Я жив пока и помню серое око и карий ржавый веночек вокруг зрачка. Как оба ока зорко смотрели! Из того и сложилась простая весть: Анна Ахматова – в снегах метели, гость из будущего – это я и есть. Дмитрий Бобышев Шампейн, Иллинойс дек. 2007
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 98-106.
Валентина СИНКЕВИЧ Филадельфия, США
ДВЕ СУДЬБЫ ЛИИ ВЛАДИМИРОВОЙ
И две судьбы, как два завета, В меня вошли, кровоточа. Лия Владимирова «Связь времен» – так называлась первая поэтическая книга Лии Владимировой, на которую я, по просьбе редактора «Нового русского слова» Андрея Седых, в 1975 году написала первую в своей жизни рецензию. Это было и наше первое с ней знакомст-во, очень скоро перешедшее в интенсивную эпистолярную друж-бу. Лично мы встретились с нею лишь однажды, когда Лия Вла-димировна с мужем, путешествуя по Америке, провела несколько дней в моем доме. Сейчас я перечитала ее многостраничные письма, которые она долгие годы посылала мне из своего израильского города Ната-ния, в мою американскую Филадельфию. Часто Владимирова щедро иллюстрировала письма своими стихами. Ее можно на-звать мастером эпистолярного жанра, заметно пострадавшего от возникновения телефонной коммуникации. Вот вкратце биография еще одного зарубежного поэта. Юлия Владимировна Дубровкина (в замужестве Хромченко, Лия Владимирова – псевдоним) родилась в 1938 году в Москве, где окончила Всесоюзный государственный институт кинема-тографии (сценарный факультет). По ее дипломному сценарию на Одесской киностудии был поставлен полнометражный художест-венный фильм «Шурка выбирает море». Там же она встретила ре-жиссера Якова Хромченко, ставшего ее мужем, в дальнейшем до последних своих дней самоотверженно ухаживавшего за недомо-гавшей женой. Хромченко был и хорошим поэтом. В России Владимирова публиковалась под своим настоящим именем: Юлия Дубровкина. Первая ее публикация (рассказ) поя-вилась в 1957 году в журнале «Юность». В Москве вышли и две ее тоненькие книжки рассказов: «Одержимые» (1968) и «Дорога» (1970). Но почти все стихи тогда она писала «в стол». И все же до отъезда в Израиль, в периодических изданиях были опубликова-ны 17 ее стихотворений. Например, вот это прекрасное, лири-
Валентина Синкевич 99
ческое, отмеченное А. Межировым, появилось в «Юности» (1971, №4) и было перепечатано за рубежом в книге поэтессы «Связь времен», затем в калифорнийском поэтическом альманахе с тем же названием по шекспировской строке «The time is out of joint» (в одном из русских переводов – «Распалась связь времен»): Все будет так, как быть должно. Всему свой срок. Усталый колос Роняет зрелое зерно, И вовремя седеет волос, Отстаиваясь, крепнет голос, Как выдержанное вино. И улей памяти роится, И золотеет тишина, И все во мне соединится, И будет новая страница Или всего строка одна. В 1973 году супруги Хромченко с дочерью репатриировались в Израиль. Дмитрий Бобышев в статье о Владимировой («Сло-варь поэтов русского зарубежья», 1999) пишет, что там «адап-тироваться она не смогла». Почему? Вопрос сложный. Солженицын в статье о Липкине, Лиснянской, Коржавине и Владимировой – «Четыре современных поэта» («Новый мир», 1998, №4), отмечая сердечность и музыкальность стихов Влади-мировой, говорит, что она поэт замечательный, но недооценен-ный. (Знаю, что слова нобелевского лауреата о ее поэзии доста-вили ей большую радость.) За рубежом творческая жизнь Лии Владимировой, можно ска-зать, складывалась довольно удачно. Здесь она широко печата-лась в периодике, особенно израильской: была автором журналов «Время и мы», «Сион», «Рассвет», «Минора», «22, альманаха «Скопус»… В Европе и США – «Континент», «Грани», «Новый Журнал», альманах «Встречи». Была и постоянным автором газет «Новое русское слово» и «Русская мысль». Также Владимирова выпустила ряд поэтических книг в Израиле: «Связь времен» (1975), «Пора предчувствий» (1978), «Снег и песок» (1982), на иврите книга стихов в переводе М. Севера «Яким насугим» /«Дни, бегущие вспять»/ (1984), «Стихотворения» (1988), «Заме-
100 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
ты сердца» (2001), и книга прозы – «Письмо к себе» (1985). В Москве: «Стихотворения» (предисловие Ф. Искандера, 1990) и «Мгновения» (1992). О ней писали многие известные поэты и литературные критики по обе стороны рубежа: Межиров, Искан-дер, Одоевцева, Бобышев, Бетаки, Маркиш, Рожанская, Штур-ман… И даже Солженицын! Имя ее есть в серьезных литератур-ных справочниках. Но письма Лии Владимировой (у меня их около сотни) крас-норечиво говорят о не вполне благополучном человеке, о внут-реннем дисгармоничном мире легко ранимой творческой натуры. Странным образом, почти постоянное состояние уныния, на ко-торое она жалуется во многих письмах, очень редко отражалось в стихах, оставшихся в грустно лирическом настроении и только в соответствии с темой, тон становился торжественно приподня-тым. Даже стихотворение, посвященное памяти Марины Цветае-вой, начинающееся с Елабуги, символа смерти: «А там, над чер-нокрылой Камой, / Свежа, открыта и страшна, / Лежит Елабуга, как яма, / И пахнет смертью бузина», – кончается днем рождения Цветаевой: «День Иона Богослова / Светлей, чем взгляд, / Ост-рей, чем слово, / Горит рябиновая гроздь». В этом стихотворении можно найти жизнеутверждающий образ: творческое возрожде-ние после смерти. Но писать о Цветаевой без налета трагизма – трудно. Вот как в одном из писем ко мне Владимирова рассказывает о цветаевских местах: «Как-то незадолго перед отъездом, прощаясь с Тарусой, подошла к ее домику (не тому, не Марининому – Цветаевых, того уже нет) и долго стояла чуть поодаль, видя калитку – да так и не решилась войти. Какая-то женщина вышла, постояла у калитки и скрылась – за зарослями вдоль ограды ничего не разглядеть. Она ли была, нет ли – не знаю, но сердцу казалось – она… А потом была березовая, светлая до ряби в глазах, роща, и тропинка к ов-рагу, и верхний мостик у обрывистого дна, и крутой и витой – меж деревьев – подъем (когда-то, девочкой, и Марина ходила, не могла миновать) к бывшей усадьбе Цветаевых… А тропинка дальше вдруг укреплялась асфальтом и, упрям-ленная, вела мимо густо, на многих веревках навешенного белья, и в редеющих деревьях, на пересечении асфальтов, указывали уже проржавевшие облупленные стрелки: “Прачечная”, “Баня”, “Столовая”, “Клуб”, “Танцплощадка”,… Дом отдыха вторгался уже и шарканьем многих ног по асфальту, и пустозвонкими уда-
Валентина Синкевич 101
рами по мячу, и оглушенными от безделья голосами и смехом. И негде было увидеть девичье, девочкино платье босоногой Марины. Все вытеснялось громко, сыто, окончательно…». В Израиле Лию Владимирову потрясло то, что там она офици-ально не была признана еврейкой, так как ее мать – русская. В письме она жалуется: «Мне это очень странно, чуждо. Достаточ-но того, что я – дочь своего отца – еврея». С гордостью она пи-шет, что ее отец, Владимир Львович Дубровкин «не был ни ком-мунистом, ни сионистом, ни еще каким-нибудь “истом”. Впро-чем, был он великим идеалистом. Был он доктором геологиче-ских наук, абсолютным бессребреником, не имел дома даже письменного стола. Вышел он из простой семьи (родился в Днеп-ропетровске), учась в Ленинградском Горном институте, содер-жал себя сам, работал чернорабочим, грузчиком. Живя уже в Мо-скве, стал кандидатом, а затем – доктором геологических и гид-рогеологических наук… Скоропостижно скончался от инфаркта, собираясь в очередную геологическую командировку – 1 июня 1963 года». В том же письме: «В 1976 году я на этой почве (что меня не признали здесь “своей” вскрыла себе вену… Слава Богу, в ту тра-гическую апрельскую ночь 1976 года Яша (муж Вл. – В. С.) по-ручился за меня. Мне очень долго переливали кровь, сшили вену и отпустили из больницы домой…». Я понимала, что депрессивное состояние Лии Владимировой не всецело зависело от внешних причин. Это она знала сама: «…моя подавленность, моя заторможенность, которая не отпус-кает меня вот уже длительное время. Казалось бы, внешних при-чин и нет, причины все – внутренние. Трудно, очень трудно мне противостоять унынию, которое, как известно, огромный грех. Но вот сейчас, в данную минуту, пишу Вам – и на душе как-то светлее…». Наша с ней переписка довольно скоро превратилась в нечто для Юли (так она стала подписывать письма) насущно необходи-мое. Она не уставала умолять, просто заклинать меня мгновенно, сиюминутно отвечать на каждое ее письмо. Я изо всех сил стара-лась отвечать как можно скорее, но если не успевала, Юлия при-бегала к стихам. «Я жду, так жду я весточки твоей!», эти слова стали лейтмотивом ее писем, которые душевно и талантливо пи-сались всего-навсего для одного человека.
102 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
В те годы и стихи писались постоянно, увлеченно и вдохно-
венно – в традиции русской классической лирики. О чем эти
стихи? В общем – о русском прошлом и об Израиле. Замеча-
тельна и ее пейзажная лирика, и библейские мотивы, и прапамять
– смутное воспоминание о стране, ставшей сейчас ее родиной.
Ни лиц родных, ни языка,
Но круг назначенный не тесен,
Когда звенит моя тоска
В напевах этих дальних песен.
Мой разум глух, мой опыт мал,
Но помню… Может быть, украдкой
Отец над темною кроваткой
Мне эту песню напевал…
Владимирова хорошо писала и прозу. Вот в письме (март 1976)
она дает весенний цветистый пейзаж ее морского дачного города
Натания: «Тут земля в цвету: март. Буйство трав, цветов. /…/ А
сейчас в полях ну прямо-таки пиршество для глаза. Еще покрыты
золотистыми шариками, похожими на мимозу, только гораздо
крупнее, здешние ивы – застывшие статуи их “фонтанов” кло-
нятся долу. Полыхают ярко-желтые дикие хризантемы,
поднимаясь во весь человеческий рост на грубо-зеленых крепких
стеблях, поля залиты этими хризантемами, сейчас самая пора их
цветенья. Зеленеет, серебрится овсюг, тоже норовя вымахать
выше моего роста. Горят среди золотого и зеленого ковра пятна
густо-алых маков, сменивших тоже анемоны. Кашка – розовая,
красная, красная с белым – тут и там пробивается в траве, радуя
глаз сочностью и крупностью. Полевые гиацинты на высоких
стеблях обливают полянки сиренево-голубым нежнейшим цве-
том. Еще какие-то цветы – маленькие, лиловые, немного похожие
на фиалки, выглядывают из травы. Ранним утром была сильная
роса, мы шли по полевой дороге, а по обеим сторонам от нее –
кипело, буйствовало золотое хризантемное царство, кое-где про-
шитое горячими маками. Последний день марта…».
При чтении этого праздника красок и весенней, жизнеутвер-
ждающей радости бытия, невольно приходит на ум начало тол-
стовской повести «Хаджи-Мурат» с буйным разливом красок в
великолепном описании полевых цветов.
Валентина Синкевич 103
О поэзии Лии Владимировой верно сказал Дмитрий Бобышев: «Драматическая, но не взаимоуничтожающая двойственность, “две судьбы” русская и еврейская, являются основным мотивом ее творчества, выраженным в самом псевдониме поэтессы, в на-звании сборника “Снег и песок” и многих других книг» («Сло-варь поэтов русского зарубежья»). Да, за рубежом Владимирова почти всегда, чаще прямо, чем косвенно, писала о «двух судь-бах»: Моя тарусская Россия, Моя владимирская ширь, Моя возлюбленная Лия, И Руфь, и нежная Эсфирь! И блещет двуединым светом Крыло у каждого плеча, И две судьбы, как два завета, В меня вошли, кровоточа. Вот и еще одно замечательное ее стихотворение на эту же тему: Звенит в тоске неутолимой Церковный хор. Глядят иконы – мимо, мимо, Потупив взор. Их лик хранит неизгладимо Черты примет: От царских врат к Ерусалиму Начертан след. О, шорох ночи Гефсиманской, Еще продлись! С тоской безумною, славянской Переплетись! И как же ты необычайно, Двойное «я» – Два мира у тебя, две тайны, Два бытия.
104 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Последнее письмо от Лии Владимировой я получила в 2003 году. В 2005 умер ее муж, ее верная и надежная опора в жизни – Яков Хромченко. Сейчас поэтесса живет в лечебнице Геронтоло-гического центра в пригороде Натании. Стихи не пишет. Вот, на мой взгляд, одно из лучших стихотворений Лии Вла-димировой, в котором она просит Господа Бога избавить ее от первой судьбы: России. Помочь «позабыть» и «отлюбить» «се-верный край». И оставить ей вторую судьбу: Израиль: Дай мне, Господи, пить Тот полынный полуденный зной! Тот потерянный рай Ты вчера мне вернул не затем ли, Чтоб смогла позабыть Окаянный, бездарный, глухой Этот северный край, Эту серую черствую землю? Кто удержит меня? И какого мне прошлого жаль? Эти стежки-дорожки
Дорожки, окошки, оконца… Ни двора, ни огня, Ни разлук… До свидания, даль! Как ты бедно встаешь В перезвоне холодного солнца! Пусть мой голос поет, Обращаясь к живым небесам! «Оглянись, Суламифь!», Память памяти в песне воскресни! Пусть мой голос поет По проселкам, лесам и полям Эту странную нам, Богоданную нам Песнь Песней. И повеет в окно Незнакомой прохладою с гор, Я была там давно,
Валентина Синкевич 105
И припомнила, Господи Боже… И раскинет мне ночь Многозвездный шатер, И шелковый ковер Мне пустыня постелет на ложе, И забыть – не забыть Этот синий, бескрайний, лесной… И потерянный рай Ты вернул мне, Господь, не затем ли, Чтоб смогла отлюбить Окаянный, бездарный, родной Этот северный край, Эту серую землю?
Но как трудно «забыть», если это слово стоит рядом с «не за-быть», а слова «окаянный», «бездарный» – рядом со словом «род-ной». И когда всё двоится: И стонет скорбная Дебора, И Ярославна вторит ей… Два горьких голоса, два взора В душе разорванной моей… Горючий камень жжет ладони, И свет, и снег, и даль в слезах, И солнце грозное в Сионе, В морозных блещет образах. Январь 2015 г.
106 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Н. Дронников. Портрет Алексея Даена. Карандашный рисунок
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 107-114.
Виталий АМУРСКИЙ Париж, Франция
МИККИ МАУС С ДУШОЙ ЧЕ ГЕВАРЫ
О русском поэте А. Даене 20-го ноября 2010 года, в Нью-Йорке, на 35-м году жизни, скон-чался замечательный русский поэт Алексей Даен1. Скончался в результате тяжелой болезни, рака. Недуг свой Алексей скрывал, а вернее – старался не афишировать, возможно, веря в то, что выйдет, в конце концов, победителем, по крайней мере, в письмах (обменива-лись же электронной почтой то раз в месяц-полтора, то раз пять в день). Я имею в виду в данном случае его упрямую тягу к шутке, изредка – на грани бравирования. Он мог вдруг прислать сочиненное буквально несколькими часами ранее стихотворение или сделанную недавно фотографию. Он особенно любил жанр портрета, созданная им изогалерея нью-йоркских творческих кругов, вне сомнения, оста-нется замечательным вкладом в историю эмиграции из исчезнувшей советской империи; не менее интересны «вневременные» его пейза-жи, свидетельствующие об умении чутко чувствовать природу, город – и в деталях, и как ансамбль архитектуры, движения, дыхания, богатой цветовой палитры; также он мог спонтанно, – да, именно ни с того ни с сего, – поведать, сколько выпил накануне или рассказать о своих подвигах или несчастьях с женщинами. Не всегда просто было у Алексея, как у нас всех, и с работой, с деньгами, и, тем не менее, эти темы он старался, выражаясь по-современному, не педалировать, обмолвившись, спешил отодвинуть на второй или третий план, куда-то за занавес. Ему, я бы сказал, хотелось быть сильнее обстоятельств, и – он был. Мы познакомились в Париже 6 июня 2006 года. Первая эта встреча состоялась в помещении пустого офиса какой-то архитектор-ской конторы, в одном из находящихся в ремонте домов, недалеко от Оперы, где по случаю своего дня рождения (формально названном мероприятием под эгидой «др ку») Слава Кучинский – музыкант, фигура знаковая в русском Париже – собрал много разных, знакомых и незнакомых между собою, лиц. Помню несколько смутно, как нали-валось и выпивалось вино, как стоял коромыслом дым, в котором плавали звуки музыки и силуэты ребят из группы «Изолятор» (Ми-хаил Богатырёв, Леонид, Кузьма), Вадим Михайлюк, Алексей Бату-
1 По инициалам (в шутку, разумеется) я именовал его иногда АД, сейчас невольно вздрагивая при этом сочетании.
108 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
сов, Слава Ардашев, Жорж Кеворк и другие, а в замкнутом простран-стве вечернего двора на одной из стен танцевали краски – креативные светоэффекты и видеопроекции «мсье Франка»... Позднее, в интер-нете виновник торжества, благодаря многим друзьям, в том числе Олегу Белоконя за предоставленную ударную установку, писал: «Ре-бята, слов нет, «др ку» получился славный!..», и, обращаясь к гостям, добавлял «спасибо» за то, что они «плюнули на открытие чемпионата мира по футболу», «не испугались переступить порог пыльной строй-ки, и в итоге вместе с нами оттягивались на “ура”, ловя неземной кайф!»2... Да, именно там, в той полубогемной атмосфере, напоминавшей не-сколько атмосферу в другом парижском уголке – в «Симпозионе» Хвостенко, – я познакомился с Лёшей Даеном. За столом некоторое время сидели небольшой компанией: русский парижанин, художник Николай Дронников (как всегда, не расстающийся с бумагой и ка-рандашом, фломастером...), Леша со своей американской дамой (увы, не понимавшей ничего по-русски) и я. Леша подарил мне тогда тетрадку журнала ЧЕ, – это был выпуск, представлявший авторов круга авангардного петербургского издания АКТ, и нью-йоркского ЧЖ3. А тремя днями позже мы вместе выступали на литературном вечере в парижском Доме русской книги, который размещался тогда недалеко от зимнего цирка4. Там же читали свои стихи и Богатырев, и петербуржец Арсен Мирзаев, и дочь замечательного художника и фотографа, обосновавшегося в Париже, Виктора Игнатенко, будущий искусствовед – Оксана... Несомненно, что написанное Даеном позднее стихотворение с названием-посвящением мне5, которое он включил в свой сборник «Треска печени», было навеяно воспоминаниями именно об этом вечере:
стихи – в тетрадь на\и\под скрепку (у юности в ушах i-pod ) малым тиражом
2 Цитирую по тексту в Интернете 3 ЧЕ. Петербург-Москва-New York, №2/2005. Составители: Тамара Буков-ская, Алексей Даен, Валерий Мишин. В номере представлены авторы круга литературного журнала АКТ (Санкт-Петербург) и литературно-художест-венного журнала ЧЖ (Нью-Йорк). Номер был отпечатан ограниченным тиражом (без точного указания экземпляров ) при содействии издательства В.А.Орлова (Москва). 4 La Maison du livre russe. 42, rue Saintonge, 75003 Paris. Ныне не существует. 5 «В. Амурскому – в Париж». Это стихотворение открыло сборник.
Виталий Амурский 109
париж москва нью-йорк все меньше
ближе дальше голодно теплее
очкарики пред дамами читают молодыми друг другу Лето 2006 года было у Лёши насыщено поездками, встречами, эмоциями. Помимо Парижа, он побывал тогда в Москве. Выступал. Был полон энергии, замыслов. Из Нью-Йорка сообщал о плане публикации в Москве, у Евгения Степанова, в издательстве «Вест-Консалтинг» нового сборника (со Степановым его связывало тесное участие в журналах «Футурум Арт» и «Дети Ра» )... Назвал он его «Треска печени», прислал отобранные стихи, попросил меня написать нечто вроде предисловия или послесловия. Я, впрочем, предложил вариант «средисловия», прочитав который, Лёша, сразу же принял. Увы, от этого скромного по объёму текста, при публикации (при-чём, не в середине книжки, а на последней обложке) остались, как от козлика в сказке – «рожки да ножки». Поэтому сейчас, в память о друге-поэте, воспроизведу это «Средисловие» полностью: «Писать преди- или после-? К лёшиным хочется среди-, ибо начало и конец книжки этой условны. Её можно открыть в любом месте (собственно говоря, это самый лучший способ чтения поэтических сборников) – она не имеет неоспоримого начала и занавеса в финале. Она же, добавлю – а сие главное – везде своя. Своя, прежде всего, по интонации, в которой я слышу и узнаю наш мир. Мир коллективного одиночества. Одиночества в толпе. Я из него. Ты – читатель – из него. АД – в смысле автор «Трески печени» – из него. Люблю его тягу к эксперименту. Игру, в которой нет игрушек. Всё настоящее. АД – поэт/писатель – глубоко русский. Но в его строках не только следы ног / может быть, и нот? ибо – музыка там! / на питерском или московском снежке с песком и солью. Не только поскрипывание дверей холодных парадных той поры, когда не существовало никаких кодовых замков, можно было обогреться на лестничной площадке; наблюдая за тем, как поднимается или спу-скается в сетке светящийся короб лифта, обнять любимую, выпить
110 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
с друзьями. В них, в стихах его – ибо это о них, - не только и не столько прошлое конкретных примет империи, где мы жили, сколько – прошлое, уже нашедшее или тоскливо ищущее себя в настоящем. В настоящем растворившееся или растворяющееся. Где это насто-ящее? – признаться, я не знаю. Может быть, в пустом вагоне нью-йоркской подземки? В том баре, что когда-то запечатлел Эдвард Хоппер? Или в безумных симфониях неуправляемых линий и пятен, которые каким-то чудом смог подчинить себе и сплавить воедино Джексон Поллок? А, может быть, на каких-то парижских тротуа-рах, или на тротуарах Кракова? АД повидал разные города. Он любит и умеет слушать их голоса, видеть оттенки их цветов от стен домов до обоев в гостинице, где мог оказаться случаем. Умеет видеть крупно – предметы, внут-ренние состояния. АД не идеолог в том смысле, что хочет навязать нам свое видение жизни. Вознести или принизить какие-то ценности. Он просто, распахивая свои страницы, щедро, открыто делится тем, что видит, чем живет сам. Это уже немало. Банка из-под пива, дамская шляпка, рискующая покинуть голову очаровательной спутницы, находящейся рядом с поэтом в машине, синяк, полученный в драке – всё в его поэзии (а «Треска печени» –лишь часть ее) получает статус полноценных образов. Связанных, независимых, самых неожиданных. Он прекрасно синтезирует же-сткое и нежное. Отвратительное и притягательное. Как? За счет чего? Любое искусство – всегда тайна. Но, при многочисленных внешних признаках формальных новаций, у него – не грим, а плоть. Ранимая. Обожженная. Мечущаяся. Могу предположить, сила АД – словописца, в первую очередь, за счет умения смотреть на свое отражение без самодовольства. За счет бесстрашного умения – выворачивать то, чем темна и светла собственная душа. Да, душа – слово не из его лексикона. Но, не называясь так, она неизменна в его мире, где соединяется столько несоединимого. И – в ней, именно в ней – все начала». Жалею ли я о том, что текст этот оказался урезан и утратил при публикации свой дух? И да, и нет. Вот почему. Всё это было напи-сано для сборника, от намеченного состава которого осталось далеко не всё, хотя в предисловии к нему Юрий Милорава безупречно точно отметил некоторые особенности творчества Даена-поэта, авангардис-та, усвоившего и связавшего уроки Айги с тем, что нашел также в американской современной поэзии, в частности «мистику недоска-занности»... Я видел и чувствовал в лёшиной книге прежде всего его жажду жизни, его восторг и печали, пульсирующие в ритме времени эпохи и времени его собственном. Сборник этот, к тому же, не
Виталий Амурский 111
замыкался для меня сам на себе – уходил, уводил к другим про-изведениям поэта, а главное к источникам питающей его мироощу-щение энергии. Безусловно, касаясь «Трески печени», опубликован-ной Степановым, надо отметить, что часть отобранного автором, он выпустил в виде другого сборника: «2-е апреля в Квинсе». Тем не ме-нее, сам по себе физический раздел крупного, интересного блока текстов на две части, на мой взгляд, не был оправдан художественно, и – насколько знаю от самого Лёши – он ощущал это больше, чем кто-либо другой... Первоначальный вариант «Трески печени», после публикации книжки в 2008 году, сохранился лишь на сайте Лёши, но, боюсь, что со временем эта виртуальная версия пропадёт, и, думая сейчас об этом, сожалею, что на бумаге – не оказалось таких из отобранных самим автором стихов, как «Послание Славе Лёну в Москву», «Дети Ра», «Айги», «Сапгир», «На смерть Щекочихина, Политковской и Литвиненко»... Или вот это, – такое, я бы сказал, очень американское! – «Ветер в Айове»:
золотые Ди-Мойн купола открытый верх кадиллака шляпку удерживает жена я – оправу Жаль и за исчезнувшее из печатного варианта стихотворение «Н. Дронникову – в Париж»:
скользящий грифель студия переполнена друзьями живыми и мёртвыми память скрепками сжата дозором обходит дронников париж седовласый гений-мальчуган косится на мою жену а мне приятно я ревнив
112 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
париж захлёстывает николая недосказанным стихом но сух из воды российский дронников P.S.: а в нью-йорке работает боков заместо дворников и любит учителя-дронникова
К Дронникову Лёша, как мне показалось, сразу как-то прикипел душой, в электронной почте часто спрашивал о нём, передал при-веты, за несколько месяцев до смерти писал, что очень хотел бы при-обрести какие-то его работы... В мае 2008 года в своей авторской программе «Литературный перекрёсток» русской редакции RFI, где я в то время работал, я рассказал немного о творчестве Даена, о последних – на тот момент – его публикациях. Должен заметить, что в рамках работы, всегда, независимо от личных отношений с тем или иным человеком в жизни, – а с Лёшей мы с момента знакомства стали сразу на «ты», – обращался и обращаюсь только на «Вы»; так вот, говоря с ним для эфира (из студии, по телефону), спросил: – В сборниках «Треска печени» и «2-е апреля в Квинсе» есть не только стихи нью-йоркские по «измам», но отсылающие читателя то в Москву, то к брегам Невы, то в Киев, то в Париж... Америка связала для вас в узелок прожитые годы и пути, или – наоборот – дала тягу к поиску всего того, что именуется «прожитым»? Ответ также воспроизвожу по архивной звукозаписи: – Скорее, Нью-Йорк – Манхэттен, поставил точку моим блу-жданиям по планете в поисках ПМЖ в мегаполисе, способного вобрать в себя как лирику тихих зелёных улочек и булыжных мостовых, так и громады из стекла, бетона и стали. Были Киев, Рига – в 86-м, Перуджия, Италия в 90-м, Москва 91-94-м, где я не ощущал себя «человеком на своём месте». В Нью-Йорке же нашёл стержень, точку опоры, которая позволяет без ностальгии трезво смотреть на прошлое, оценивать настоящее и сквозь замочную щель подглядывать за будущим. Путешествия также оставили немало образов в моих стихах и фотографиях – римский Пантеон, Карлов мост Праги, Церковь Святого Иосифа в Монреале, фотография двухгодичной давности у входа в магазин русской книги в Париже, где я стою рядом с вами и Мишей Богатырёвым после совместного
Виталий Амурский 113
поэтического чтения... Прожитое сложилось в стихах в узелок пережитого с элементами реальности и сюрреализма будущего. Последняя фраза сейчас представляется мне очень характерной, словно в ней отразилось главное – то, что питало перо Лёши. Память... Вот стихи с моим посвящением ему: «Шутливая импро-визация в двух частях», вот с эпиграфом из него – «Снег в Квинсе»:
Я в квинсовской квартире. Одинок.
На ум приходят ты и снег московский. А. Д.
Снег в Квинсе, словно снег Москвы, И мысли, и дела опять паршивы,
Лишь легкий пар, да желтых фар мазки На тротуаров холст кладут машины, Как много лет назад, когда конца, Казалось, не настанет чертовщине, И кислого хватало нам винца Отсчитывать иные годовщины. Теперь не то. А, может быть, и то.
О, времени прошедшего отрава, Где, кажется, мы жили так светло,
Хотя печальней не бывает, право. Вместе с Александром Очеретянским, готовя «мини-антологию свободного стиха»6, как один из составителей, Лёша включил в сборник и мои строки... И тут, в «Нашем выборе», и под какими-то другими обложками мы оказались вместе. О прошлом можно вздыхать, можно не вздыхать, но оно всегда существует. Оно было, разумеется, и у Лёши, но... он словно стремился не писать и не думать об этом, или старательно скрывал многое. Я не читал и не слышал от него самого ничего о его киевской жизни, о его родителях, близких... Может быть, впрочем, о времени своего взросления умалчивал он, прежде всего, по той причине, что прошлого, как такового, у него реально было немного? В самом деле, что он мог по собственному опыту знать о советском времени, о тогдашнем режиме? Империя рухнула раньше, чем он повзрослел, ощутил её волчью хватку... Утверждать, конечно, я ничего не смею.
6 Наш выбор, Составление / отбор А. Очертянского и А. Даена. – Нью-Йорк: Библиотека альманаха «Черновик», 2010.
114 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
У каждого свой опыт. Одни взрослеют в 10 лет, другие остаются детьми в 90... Интересно, кстати, – дату своего рождения Лёша называть не любил. Или, называя, – фантазировал, прибавляя себе годы... Так сказал мне однажды по телефону, что родился 30 ноября 1972 года. Карандашом я добавил эту дату в один из справочников по современной русской литературе за рубежом, а после кончины Лёши, наш общий – ныне куда-то испарившийся – приятель (с которым Лёша меня и познакомил), поэт и писатель Виктор Санчук, сообщил совершенно иную дату: 30 октября 1976 года. Точность её, согласно Виктору, оказалась несомненной – отразилась в официальном про-токоле о смерти, и на намогильной надписи: Aleksey Daen. Born Oktober 30, 1976 Kiev, Ukraine – Died November 20, 2010 Queens, USA. При учете того, что Квинс входит в состав Нью-Йорк-сити, можно было бы в равной мере указать на то, что умер Алексей просто в Нью-Йорке, в этом огромном городе, который любил и, думаю, без которого его жизнь оказалась бы беднее красками. Похоронили поэта 22 ноября на квинсенском кладбище Бетель (Beth-El Cemetery). Я пишу и повторю: поэта. Вне сомнения, его талант был много-гранен. Он был, как я уже отметил выше, замечательный фотограф. Он также работал с кинокамерой, писал для газет, сотрудничал с нью-йоркским международным издательством Cross-Cultural Commu-nications... Он гордился своими литературными премиями, из которых, если не ошибаюсь, самой важной считал Международную отметину им. Давида Бурлюка7... В Париже носил майку с изображением Че Гевары и Микки Мау-са. В игровом выборе этом сквозила некая неслучайность – в самом Алексее словно уживались революционер (ну, понятное дело, тут я о революции только словесной, творческой!) и легендарный персонаж из Диснейленда.
7 Международная отметина имени одного из лидеров русских футуристов Давида Бурлюка – премия, учрежденная поэтом и филологом Сергеем Бирюковым и вручаемая им (в виде диплома) с 1990 года от имени учреж-денной им Академии Зауми русским поэтам, продолжающим традиции фу-туризма, и исследователям, изучающим русский авангард. А. Даен стал её лауреатом в 2004 году, когда удостоился и премии журнала «Футурум АРТ».
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 115-136.
Дмитрий БОБЫШЕВ
Урбана-Шампэйн, США
АМЕРИКАНСКИЙ ДОМ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
В стародавние времена считалось, что прагматическая и недо-
статочно цивилизованная Америка – не место для поэзии. Можно
было бы назвать Пушкина, напечатавшего в «Современнике»
очерк об американском мальчике, захваченном индейцами и 30
лет прожившем среди них. Здесь неотъемлемым от поэзии было
одно лишь имя автора, в остальном же этот очерк являлся едкой
критикой общественных нравов в Америке и её демократии «в
народе, не имеющем дворянства». Однако сама заокеанская
жизнь с её свободой, динамикой и неограниченными возмож-
ностями, жизнь, полная приключений и опасностей, создавала
целое облако вымыслов о ней. Этот романтический образ страны
поддерживали ранние американские писатели Вашингтон Ир-
винг, Майн Рид, Фенимор Купер, – любимцы европейского и, в
частности, русского юношества. Сколько мальчиков (вроде Тёмы
из Гарина-Михайловского или чеховского «Монтигомо») мечта-
ли сбежать туда от взросления – в игры детства, в прерии с
бизонами и ковбоями или в леса с индейцами и звероловами! В
их сознании Америка превратилась в мифологическое простран-
ство, в подобие зазеркалья, куда можно было кануть без возврата,
а если и вернуться назад, то уже с новым, непередаваемым опы-
том, как достоевские «бесы» Ставрогин и Шатов, перешагнувшие
черту запредела.
Между тем, новосветская литература развивалась и крепла,
давая миру высокие образцы прозы, поэзии и общественной
мысли, которые, к сожалению, не скоро переводились на русский
и, следовательно, не торопились войти в круг тем, обсуждаемых
светом. С большим опозданием русский читатель оценил библей-
ский пафос и мужественность героев Германа Мелвилла или тре-
петные строки Эмили Дикинсон, но всё же нельзя сказать, что
великие идеи трансценденталистов Уолдо Эмерсона и Генри То-
ро прошли мимо России. Они оказались созвучны учению Льва
Толстого, уже через него воздействуя на русскую литературу и
общество.
Одним из культурных первопроходцев Нового Света оказался
знаменитый новатор русского стиха и путешественник, поэт Кон-
116 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
стантин Бальмонт. Он побывал не только в «каменных джунглях»
Нью-Йорка, но и углубился в материковую сердцевину Америки,
вдохнул воздух её прерий и ветер Великих озёр. Он вынес оттуда
в своих переводах поэзию Эдгара Аллана По и Уолта Уитмена.
Эти имена стали частью русской культуры, как раз в нужное
время, – когда формировался отечественный модернизм. Много
путешествовавший, но так и не добравшийся до Америки Иван
Бунин тоже внёс свой американский и до сих пор никем не пре-
взойдённый вклад в русскую культуру, переведя эпос Генри Лон-
гфелло «Песнь о Гайавате». А его современник Владимир Коро-
ленко, поездивший по Америке, вывез оттуда отнюдь не поэти-
ческие, – наоборот, полные едкой социальной критики очерки и
повесть «Без языка» про нашего злосчастного (а, может быть,
просто туповатого?) соотечественника.
Но дальнейших отражений в русском зеркале Америке при-
шлось ещё ждать долго. Знаменитые гастролёры должны были
пожаловать в Новый Свет, чтобы с высоты охватив его единым
взглядом, вынести полное и окончательное суждение. Однако,
поверхностный подход, в особенности если он политически
ангажирован, мог стать причиной мелких, но смешных ошибок.
Так «попался» Максим Горький, написавший макабрический
памфлет о Нью-Йорке как о городе «Жёлтого Дьявола» и опро-
метчиво назвавший джаз «музыкой толстых», то есть усладой
разжиревших капиталистов. Невдомёк ему было, что это как раз
музыка чёрной бедноты, место рождения которой – досто-
славный сарай “Reservation Hall” в Новом Орлеане. Подобным же
образом топографическая ошибка свела на нет весь политический
пафос стихотворения Владимира Маяковского «Бруклинский
мост». Великому кубофутуристу не мог не понравиться, хотя бы
эстетически, Нью-Йорк и в особенности мощные формы моста,
перекинутого из Бруклина на Манхеттен через Ист-Ривер. Но,
выполняя идеологическую задачу, поэт заставил безработных
прыгать оттуда в... реку Гудзон, протекающую по другую сто-
рону острова, для чего они должны были бы перелететь через все
небоскрёбы Даунтауна! Нет, для адекватного описания этих мест
недостаточно иметь статус туриста или гастролёра, надо туда
прибыть реальным поселенцем с котомкой на плечах и надеждой
в сердце.
Однако волны русского люда, покидавшие свою катастрофи-
ческую родину, а заодно с ними и русские литераторы оседали в
Дмитрий Бобышев 117
тех местах, куда Бог пошлёт: в Болгарии, Югославии, Германии,
Бельгии, Франции, даже в Китае, но только не в Америке.
Правда, Давид Бурлюк уже осел в Нью-Йорке, обнаружив там
целую колонию соотечественников: то были кишинёвские, одес-
ские, киевские евреи, которые после погромов справедливо по-
считали Россию небезопасным местом. И в 20-е, и в 30-е годы
свеча русской поэзии уже затеплилась на обоих побережьях –
Атлантическом и Тихоокеанском. И на том, и на другом (и даже
на берегах Великих озёр) возникли сообщества русских стихо-
творцев, которые выпустили первые коллективные сборники с
говорящими названиями: «Из Америки», «Земля Колумба», «У
Золотых ворот». Сведения о них я почерпнул из исследования
Вадима Крейда «К истории русской поэзии Америки», которое я,
разумеется, не берусь пересказывать.
K концу 30-х уже вся Европа стала просто опасна. В самый
разгар Мировой войны среди многих русских (уже дважды эми-
грантов) в Америку переселяются из Европы такие литературно
активные люди, которые способны тут же начать действовать и
возрождать жизнь и словесность на новом месте. Среди них –
Андрей Седых, будущий редактор газеты «Новое Русское Сло-
во», семья Цейтлиных, основавших теперь уже старейший «Но-
вый Журнал», Софья Прейгель, зачинательница журнала «Ново-
селье». Сами названия этих периодических изданий говорят о
мужественном стремлении обустроить свой новый дом и прочно
в нём обосноваться:
Пьяный от света бескрайного,
От молодого луча,
Спит среди плеска трамвайного
Город, похожий на тайного,
Нищего богача.
Это проницательный взгляд Софьи Прейгель на город, в кото-
ром легко угадывается Нью-Йорк, взгляд не приезжего – из го-
стиницы, а уже местной жительницы из своего окна. Но заметим,
что полного доверия к округе у неё нет, а есть оглядка и осто-
рожность...
В течение 40-х и до самого начала 50-х «Америки увидели
холмы» не только Иван Елагин, автор этой эпической строчки,
или его жена, поэтесса Ольга Анстей, но и многочисленные по-
118 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
путчики, – перемещённые войной лица из числа советских бе-
женцев, пленных и угнанных на принудительные работы, как,
например, Валентина Синкевич, а также более ранних эмигран-
тов из России в Восточную Европу, которые вынуждены были
податься ещё дальше от коммунистических освободителей. Сре-
ди них были Игорь Чиннов, оставивший своё эмигрантское до-
мовье в Латвии, и Юрий Иваск – в Эстонии.
Осознание своего нового дома для многих, если не для всех
эмигрантов стало непростым процессом. Это могло быть заведо-
мым предубеждением, страхом перед отдалённой чужбиной и не-
известностью. Подобные чувства вырвались в строках Елагина:
А чёрт ли нам в Алабаме?
Что нам чужая трава?
Мы и в могильной яме
Мёртвыми, злыми губами
Произнесём: «Москва».
Однако путь в Москву был уже, как говорится с обратным
знаком, заказан, и приходилось нехотя, со смущением, с провин-
циальной застенчивостью принимать новый дом таким, каков он
есть, описывая, например, стриптиз:
Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла.
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.
Картины кострами сложите
И небо забейте доской!
Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской.
В дальнейшем Елагин переехал в Питтсбург, «помирился» и
примирился с Америкой, увидел в ней красу и посвятил много
ярких стихов, описывающих и даже воспевающих её природу и
урбанистические пейзажи. Но позднее, хотя поэт и декларировал,
что ему «незнакома горечь ностальгии», он, однако, признавался,
что всё же для полноты жизни «не хватает русского окна».
Дмитрий Бобышев 119
Поэт схожей судьбы, словесник Иван Буркин поначалу совсем
затерялся «в каменных крестословицах Нью-Йорка», в то время,
как память подавала ему «на золотой ложке душистые стихи
Хлебникова». В абстрактных нумерованных пересечениях, как он
решил, уже не бытие (по Марксу), а «небытие определяет со-
знание». Даже переехав в пёстрый субтропический мир Калифор-
нии, этот игровой, а иногда и бурлескный поэт продолжал сето-
вать:
Есть страна Зарубежье.
Никакой панорамы.
Лишь провалы и бездна.
Лишь ухабы и ямы.
Но, наконец, и он обрёл там, на холмах Сан-Франциско, где
«адрес засыпан сиренью», свой дом, о котором горделиво писал:
Живу, словно бог олимпийский,
На самой вершине горы.
Поодаль от него, но тоже на Дальнем Западе, нашёл себе оби-
тель ещё один словесник-виртуоз – Николай Моршен, куда при-
вела его извилистая судьба «перемещённого лица». Природа
Северной Калифорнии обуяла и очаровала озабоченного своими
проблемами новосёла, с поникшей головой бредущего по лесу.
Вдруг он обратил внимание на «огнелистые дубы», загляделся на
них и тут же ощутил поддержку самого леса, «бессловесного
старожила»: «... и осина уронила прямо в душу – золотой, ... и
гигантская секвойя грудью стала за меня». Поэт оплатил эту
«лесную опёку» сполна – великолепными русскими стихами.
Итоговым сборником поэтов Второй волны стала антология
«Берега», собранная и изданная в 1992 году поэтессой Вален-
тиной Синкевич, живущей в Филадельфии. «Берега» вызвали
жаркую дискуссию, в которой участвовала и советская сторона
(разумеется, негативно). Но такие споры, наконец, взломали лёд
замалчивания и непонимания, тяготивший всех послевоенных
эмигрантов.
Среди иммигрантов Ди-Пи (displaced persons), прибывших в
Америку, были русские поэты из Прибалтики, которые относили
себя к Первой волне. Родившиеся в России и покинувшие её в
120 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
детском возрасте, они испытали на себе все перипетии буферных
государств, оказавшихся то под нацистами, то под коммуниста-
ми, и в результате разделили судьбу остальных «перемещённых
лиц».
Борис Нарциссов (это не псевдоним, а настоящее имя) после
многих бедствий и опасностей военного времени встречается с
Нью-Йорком как с ещё одним приключением, заготовленным для
него жизнью. Однако агрессивную новизну города он гасит сни-
женным, бытовым описанием:
Зимой Манхаттан угощает
Коктейлем ветра с мокрым снегом,
Приправленным бензинной гарью,
И сумерки свинцово-неприветны.
Великолепно!
Неожиданный возглас вызван тем, что «лихорадка жизни на-
конец-то одолена», следуя эпиграфу из Эдгара По, и теперь оба
поэта могут разговаривать в тишине и покое. Они ведут диалог о
таинственных и страшных силах, влияющих на судьбы людей.
Ярких фантастических образов в стихах у Нарциссова немало, и
это роднит его с великим американским собратом.
Игорь Чиннов, тоже дважды эмигрант и продолжатель Па-
рижской ноты, скорей снобирует, чем ведёт диалог с Новым Све-
том, по-своему оценивая его эстетически, и диснеевский Микки
Маус, конечно, является сильнейшим пробным испытанием для
изысканного европейца. Но Чиннов его преодолел элегантным
образом, зарифмовав со словом «жизни» – слово «Дизни»!
Вкусы Чиннова во многом разделял Юрий Иваск, его приятель
ещё с тех времён, когда оба жили в соседних государствах (со-
ответственно в Латвии и Эстонии). Из них двоих Иваск оказался
в Америке раньше, и его первые впечатления на новом месте бы-
ли совсем не радужными:
Нью-Йорка оттопыренные пальцы
Скребли замызганные небеса.
Грязца, возня бродячего Бродвея,
Который уносился к чёрту, вея
Зловониями, и увеселял.
Дмитрий Бобышев 121
Тем не менее, он зазывал друга, хлопотами способствовал его
переезду, и уже американцами они вместе путешествовали по
свету, включая любимую ими Мексику и Европу. Я познако-
мился с обоими вскоре по прибытии в Штаты и, желая скорей
укорениться в новой жизни, не раз говорил с ними на эту тему.
Иваск признавался: «Америка – это удобства, при всей благо-
дарности к этой стране. Но моя любовь – Европа. А наши
читатели все в России». Я возражал: мне Америка нравилась не
только удобствами, но и многим ещё, в том числе дикой при-
родой. На это Иваск ответил: «Гора только тогда имеет смысл,
если на её вершине стоит какой-нибудь замок».
И всё же он ценил своё последнее обиталище в прелестном го-
родке Новой Англии — Амхерсте, где когда-то жила затворницей
Эмили Дикинсон. Там был его скромный дом, который он обо-
значал немецкой поговоркой «Klein aber mein» (мал, да мой):
Я собственностью малой обладаю.
Рябина, вишня, четверня берёз.
Ограда ёлочная. Хата с краю,
Где книгами до потолка оброс.
Милы мои осенние Сабины.
Опоссумы, бурундуки, дрозды.
Незванный рой: назойливый, осиный.
Несносные стихи на все лады.
Там же Иваск и похоронен – на старом городском кладбище, в
двух шагах от Эмили, своей «соседки».
В самом начале 70-х дотоле закрытые границы Советского Со-
юза приоткрылись, и оттуда хлынула новая, Третья волна эми-
грации. Официально выпускались только евреи, только ради вос-
соединения семей и только в Израиль. Но на самом деле выез-
жали люди и других национальностей, при этом семьи зачастую,
наоборот, разлучались, к тому же в Израиль направлялась только
часть эмигрантов, а значительная их доля предпочла поселиться в
Соединённых Штатах. Среди них было много пишущей публики
и несколько общепризнанных «звёзд».
К моему приезду в Америку в 1979-м году там уже хорошо
обосновались собратья по перу Иосиф Бродский и Лев Лосев. Мы
лично не общались, но надеюсь, взаимно следили за публика-
122 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
циями друг друга. В рамках означенной здесь темы, (а она тогда
касалась меня весьма ощутимо), я с интересом наблюдал, как во-
спринимается новая жизнь и новая страна поэтами, которых я
знал по прошлой жизни. Вот, например, Бродский:
В те времена, в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой провинции – в быту
профессор красноречия, – я жил
в колледже возле Главного из Пресных
Озер, куда из недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.
«Страна зубных врачей» – и это всё, что стоит сказать о но-
вообретённом прибежище? Отчего же дантисты так особо выде-
лены – наверное, из-за здешних качественных улыбок, над кото-
рыми они славно потрудились? Или это потому, что сам автор
прячет во рту «развалины» и находится в ожидании неотврати-
мого визита в зубоврачебную клинику? Тогда это понятное преу-
величение, наподобие гипербол Маяковского, у которого «гвоздь
… в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте».
А вот ещё одно странное и упрощённое до стереотипа опре-
деление страны, даже всего североамериканского континента как
«держащегося на ковбоях»… Конечно, это ирония, но чем она
вызвана? И – зачем? Эта страна давно уже держится не на ко-
вбоях, а на своих принципах, да на свежих умах и талантах (в том
числе и таких, как Бродский), которых она принимает, взлеле-
ивает, и затем прославляет и учится у них, развиваясь дальше.
Своего рода уважительным взмахом руки в сторону Америки
является его стихотворение «Осенний крик ястреба», одно из его
лучших, написанное с ледяным мастерством. Птица, напоминаю-
щая эмблематического орла, взмывает в небеса, чуть ли не в стра-
тосферу, чтобы там, презрев законы физики и наблюдения орни-
тологов, рассыпаться ворохом перьев, оседающих на землю в
виде снега. В апофеозе, как на рождественской открытке, детвора
Дмитрий Бобышев 123
выбегает из школы и радостно играет в снежки с криками: «Зима!
Зима!»
С темой обучения связано стихотворение Льва Лосева о буд-
нях его американской жизни «Один день Льва Владимировича»:
… Жую
из тостера изъятый хлеб изгнанья
и ежеутренне взбираюсь по крутым
ступеням белокаменного зданья,
где пробавляюсь языком родным.
Лосев обучает «недорослей местных», как и Бродский, родной
словесности. Но похоже на то, что не он из них, а они из него вы-
тягивают жилы:
Передо мною сочинений горка.
«Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребёнками». Отлично, Джо, пятёрка!
Каждый звук ломаной речи учащихся «калечит мой язык». А
какова на вид эта самая Америка, заглядывающая в окна поэта?
... А за окном Вермонт,
соседний штат, закрытый на ремонт,
на долгую весеннюю просушку.
...Какую ни увидишь там обитель:
в одной укрылся нелюдимый дед,
он в бороду толстовскую одет
и в сталинский полувоенный китель.
Здесь безошибочно угадывается карикатурный образ «вермон-
тского отшельника», на что дополнительно указывает само назва-
ние стихотворения – комическая перелицовка «Одного дня Ивана
Денисовича». Да и в других обителях живут не американцы, а
примерно такие же сатирические персонажи, соотечественники
автора, его «собратья по перу». Сама Америка, судя по стихам,
его не очень интересовала.
Наше поколение, как и предыдущие, уже отошло или ещё от-
ходит в мир иной. Поскольку я сам к нему принадлежу, восполь-
зуюсь случаем хотя бы обозначить названиями свой вклад в аме-
124 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
риканскую тему. Это цикл стихотворений «Звёзды и полосы»,
книга стихов «Жар-куст» и значительная часть книги «Ода возду-
хоплаванию».
Третья волна, однако, ещё не иссякла, её прибой плавно под-
держивают последующие волны. Очень интересным поэтом при-
был в Америку ещё в 1975-м году Алексей Цветков. За зигзагами
его новой судьбы трудно было уследить: он учился на Среднем
Западе, получил учёную степень в Калифорнии, преподавал в Но-
вой Англии, затем круто поменял карьеру слависта на жур-
налистику, вещал в Праге по радио «Свобода», на годы забросил
поэзию, вдруг вернулся в Нью-Йорк и выпустил книгу новых
стихов с дерзким названием «Шекспир отдыхает». Америку он,
конечно, знает, но как-то отстранённо от своей жизни. Прежде
чем цитировать, должен предупредить, что Цветков в стихах не
употребляет заглавных букв и знаков препинания:
америка страна реминисценций
воспоминаний спутанный пегас
Описывает ли он «пыльные равнины невады» или «тифозный
провал небраски», его отстранённость всё более напоминает от-
талкивание. Вместе с тем, он настолько погружается в местный
колорит, что в стихи врывается английская речь, а затем и пол-
ностью овладевает стихотворением. Его образы бывают резки и
художественно сильны, всё это так, но по адресу Америки они
получаются у него особенно негативными, полными сарказма,
тем более, что он любит эстетически шокировать читателя:
на шоссе убит опоссум
не вернется он с войны
человек лежит обоссан
в сентрал-парке у воды
второпях портвейну выпил
не подарок он семье
и моча его как вымпел
тонко вьется по земле
спят проспекты и соборы
воры движутся с работы
с толстой книгой и огнем
ходит статуя свободы
Дмитрий Бобышев 125
грустно думает о нем
сны плывут в своей заботе
как фонарные шары
в сентрал-парке на заборе
сохнут ветхие штаны
В этом я нахожу противоречие: поэт по своей доброй воле воз-
вращается как домой в страну, которую он сам же приравнивает
«ко всем камерунам мира»… Почему же тогда не в Камерун?
В отличие от плотного, мужественного стиха Цветкова, его
«добрый соперник» Бахыт Кенжеев пишет заметно легче, воз-
душней, оснащая свои строчки то иронией, а то и сантиментом.
Новый Свет ему уже далеко не в новинку, он эмигрировал ещё в
1982-м, но не в Штаты, а в Канаду, где прожил более двух
десятков лет, прежде чем перебраться на жительство в Нью-Йорк.
Я рецензировал его первую книгу, вышедшую в «Ардисе», и
назвал свой отзыв «Бахыт Кенжеев и Прекрасная Дама». Там я
прежде всего дивился необычному имени молодого русского поэ-
та, невыгодно звучавшему, как мне казалось, для читателей. Но
вышло, что я неправ. Его имя примерял к себе Игорь Чиннов, с
шутливым удовольствием называясь: «Бахыт Чиннов!»; его имя
теперь знают множество почитателей по обе стороны Атланти-
ческого океана. А вот по поводу Прекрасной Дамы, похоже, я
угадал. В той книге, как и во многих последующих, было много
стихов о любви. Но её ускользающий образ оказывался то слиш-
ком близко, то недостижимо далеко. Недостижимо ли? Муза эми-
грации оказалась его Прекрасной Дамой, и поэт ей следовал, хотя
и без страсти, но со спокойной симпатией:
Осень в Америке. Остроконечные крыши
крашены суриком, будто опавшие листья
клёнов и вязов. На улицах чище и тише…
…Или и впрямь настоящее – только цитата
из неизвестного? Полно отыскивать сходство
между чужим и своим, уязвившим когда-то
и отлетевшим. Давай забывать его с каждым
взмахом ресниц, даже если по-прежнему жаждем
нового света. Отпели, пора и на отдых…
126 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Поэт открыт восприятию (и даже приятию) новой жизни, но не
в силах полностью оторваться от прошлого.
Местным жителям вряд ли заметно,
как брожу этим городом я.
Зеленеют его монументы –
генерал, королева, судья.
Небоскрёбов особенных нету,
и уныния нету ни в ком…
…Хорошо мне на воле. Судьба
улыбнулась, и каяться не в чем,
жаркий пот вытирая со лба.
Слёзы. Проводы. Рёв самолёта.
Повезло. По заслугам и честь.
Есть в разлуке от гибели что-то…
Перестань. Разумеется, есть.
Конечно, и в разлуке, и в Америке есть всё: «Стихи Набо-
кова... Апрель. Вишнёвый цвет». Есть пышноволосая славистка, с
которой бы и поговорить на все эти темы. Но в то же время
появляется и нечто необсуждаемое:
Вот Бог, а вот порог, а вот и новый дом,
Но сердце, в ритме сокровенном,
Знай плачет об отечестве своём
Осиновом и внутривенном…
Это он написал, думая, что уже не увидит «родных осин». Но
теперь, когда можно их навещать, Бахыт вовсю пользуется такой
возможностью.
Позднее к Третьей волне присоединился Андрей Грицман, ко-
торый состоялся как поэт уже в эмиграции. Но, прежде всего, он
профессионально обосновался в Америке как врач, причём, весь-
ма успешно. Существует поверие, что медицинская практика даёт
бесценный опыт для прозаиков, но Грицман на новой почве стал
поэтом – не только русским, но и американским, англоязычным.
Его энергичной натуре это придало особую мобильность, по его
стихам видно, что он чувствует себя своим (а в равной степени и
Дмитрий Бобышев 127
чужим) в любом культурном пространстве, став подлинным кос-
мополитом. Но, ритуально приняв иудаизм, он присоединил к
своим двум домам ещё и третий – Израиль.
Мне приходилось рецензировать его книгу эссе и стихотво-
рений «Long Fall (Долгая осень)», изданную по-английски. В
открывающем книгу эссе Грицман признаёт, что должен платить
за своё место в космическом корабле, летящем в таком межкуль-
турном пространстве. Эта плата – культурное отчуждение. Но я
убеждён, что она возвращается сторицей в виде способности
двойного зрения, позволяющего видеть объект одновременно и
изнутри, и снаружи. Такое зрение – благо для поэта, источник
свежести и оригинальности стиха.
Вот как это действует в стихотворении «Греческая столовая»,
где автор завтракает «в прогорклом, мерцающем тепле простого
дайнера на местной 547 дороге...». Никакой особой этнической, в
том числе и греческой, еды там нет – тост, бэкон, чашка мутного
американского кофе с иллюзорным отражением греческого пей-
зажа на поверхности горячего напитка. Тогда причём тут Греция?
Дело в том, что у поэта на столе лежит книга Осипа Мандель-
штама, открытая на странице со стихом, имеющим отношение к
Троянской войне! «Бессонница, Гомер, тугие паруса...»
Грицман даёт свой перевод этого знакового текста и вставляет
его в англоязычное стихотворение, так что получается, что
перевод из Мандельштама представлен как картина на фоне аме-
риканского пейзажа. Это сочетание и особенно трансцендентные
строки «Бессонница, Гомер...» создают удивительный мираж
вместе с детально описанной американской реальностью.
А вот стихотворение, написанное на русском, где автор в
гротескной форме декларирует свою бездомность:
все, что я делаю, на самом деле, –
валяюсь в кустах на перекрестке
трех дорог, пьяный, – кому в отместку?
очевидно, себе – так написано в Деле;
оно хранится где-то в буфете,
а где же еще? старый сыр да мыши;
там есть все, что любил на свете,
но что это – помню все меньше и меньше;
128 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
здесь на пути иногда приляжет
моя подруга с бутылкой рядом –
вот мы и дома; плевать, что скажут,
может другим показаться адом,
а мы так живем, выбираем дорогу
одна – до почты, другая – на реку,
а третья дорога, наверное, к Богу,
но туда нельзя дойти человеком.
Я бы не слишком буквально верил этому аллегорическому
персонажу, который под видом китайского мудреца объявляет
себя убеждённым бродягой. Лучше прислушаться к прямой речи
поэта: «…Но дом образовался, в конце концов, и здесь, в Аме-
рике, и, подобно стране под названием "Москва”, мы обрели
новую страну – “Нью-Йорк”, где тоже «каждый камень знает»…
В двух километрах от места, где я сейчас пишу эти строки,
покоится прах моей матери – в зелёном холме американского
кладбища, больше похожего на ухоженный парк, в отличие от
старых российских кладбищ… Когда-то я писал, что получаешь
право на землю, когда в неё ложатся твои близкие… В Нью-
Йорке возникает чувство, что ты на месте, дома, всё открыто – и
выход в Атлантику, а там и в Средиземноморье… Нью-Йорк –
город перемещённых лиц, портовый город, пересадка, большой
вокзал, с которого мы почему-то не поехали дальше, а остались,
достали жареную курицу, выстроились в очередь за кипятком, –
вот это и стало домом».
Сам Андрей Грицман, очевидно, чувствует себя уверенно и
вполне на месте, путешествуя в межкультурном пространстве,
передвигаясь по всему свету, активно участвуя в литературной
жизни России, Израиля и, естественно, Соединённых Штатов.
Его состоявшийся проект – это журнал «Интерпоэзия», который
выходит и на русском, и на английском языках. Редактору и из-
дателю А. Грицману в короткое время удалось привлечь из-
вестные литературные имена и представить «Интерпоэзию» в
Интернете на влиятельном российском портале «Журнальный
зал».
В этом журнале часто и помногу печатает свои стихи и эссе
Владимир Гандельсман, оказавшийся в Америке на излёте
Третьей волны или, скорей, в самом начале последующих волн –
Дмитрий Бобышев 129
уже не «эмиграции», а просто миграции, которой чуждо понятие невозвратности. Ещё в Ленинграде он, вопреки своему инженер-ному диплому, предпочёл в основном заниматься поэзией, а на пропитание зарабатывать на таких неответственных должностях, как сторож, грузчик и пр. Для тогдашних «неофициалов» это был привычный выбор, и я в своё время приветствовал их стоицизм и неуступчивость властям в статье «Котельны юноши». Гандель-сман этот стиль жизни перенёс и за океан. Он много пишет, экс-периментируя с ритмом и рифмами, но темы стихов уносят его далеко назад, «домой», в детское прошлое, в родительское гнез-до, «к маме». Разумеется, есть у него и другие стихи, в том числе и о новой жизни в местах, которые иначе, чем «чужбина» не назовёшь. Вот, например, отрывок из стихотворения «Эмигрант-ское»: День окончен. Супермаркет, мертвым светом залитой. Подворотня тьмою каркнет. Ключ блеснет незолотой. То-то. Счастья не награбишь. Разве выпадет в лото. Это билдинг, это гарбидж, это, в сущности, ничто. Отопри свою квартиру. Прислонись душой к стене. Ты не нужен больше миру. Рыбка плавает на дне… …Спи, поэт, ты сам несносен. Убаюкивай свой страх… Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах. Поэт по-прежнему живёт с ощущением «заграницы» даже в освоенном им обжитом пространстве: «в иностранном, амери-канском городке с названьем чудным и престранным я жил тог-
130 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
да…». Он погружён, не растворяясь, в чуждую ему цивилизацию, а местных жителей считает в душе варварами:
Какой-нибудь невзрачный бар. Бильярдная. Гоняют шар. Один из варваров в мишень швыряет дротик. Зимний день. По стенам хвойные венки. На сердце тоненькой тоски дрожит предпраздничный ледок. Глоток вина. Еще глоток. Те двое – в сущности, сырье для человечества – сейчас заплатят каждый за свое и выйдут, в шкуры облачась. Интересно, хочется ли автору назад, в сегодняшнюю Россию? Вряд ли он нашёл бы там то, что потерял. Его истинный дом – детство, а туда уже дороги нет. Много у него есть схожего с Александром Алейником, поэтом из Нижнего Новгорода (города Горького), который бился в Москве, как рыба об лёд, за при-знание, но ничего у него не получилось. Пришлось уехать в Нью-Йорк, где он издал свою первую книгу стихов «Апология». В предисловии к ней Гандельсман, по судьбе и по перу собрат Алейника, сочувственно объясняет: «...Перед нами поэт, который отрывочно печатался в эмигра-ции и совершенно не печатался в России, и нет ничего утеши-тельного в том, что он разделил судьбу сотен ему подобных. Тем более, что поэт в число подобных никак не входит. Он беспо-добен по определению». Действительно, он уникален уже тем, что над бесхлебностью, тревогой и бездомностью эмигрантского положения его песня зазвучала мажорно. Она и меня привлекла радужным звуком, который бежал волной впереди его образов:
Дмитрий Бобышев 131
Я уже перекрыл
достиженья пилотов суровых тридцатых.
Я глаза накормил
облаками из сахарной ваты.
Океан в паричках Вашингтона -
рулон неразрезанных денег Америки
был развернут в печатях зеленых
к «Свободе», маячившей с берега.
Я отрезал от черного хлеба России
треугольный ломоть невесомый,
горько-кислый, осинный,
с размолотым запахом дома.
Его третья книга «Другое небо» уже в названии обращала вни-
мание на эпитет: не надрывное, «чужое», как в песне Петра Ле-
щенко «Журавли», а просто «другое», то есть иное, чем прежде.
Это небо – метафора эмиграции, оно фиолетовое, нью-йорк-
ское, где «звезда – направо, а луна – налево», по нему вечерами
летают бродвейско-шагаловские скрипачи и лошади с жеребята-
ми в брюхе, а днём проплывает чья-то пятнадцатиминутная слава
«головой на закат, голубыми ногами вперёд», как обещал каж-
дому взыскующему славы – словак Энди Уорхол. Стихи Алей-
ника меня обрадовали летучестью, причудливо-красочной образ-
ностью и, главное, той интонацией, с которой он пропел свою
весть о жизни. Это был не «петушиный» оптимизм, потому что
звучал над драмой, и притом нешуточной: ведь каждый эми-
грант ломает судьбу пополам, как странник свой посох о колено –
на «до» и «после» отъезда. И всё-таки поэзия преобразовала
драму, а новизна и любовь сообщали стихам радостную тональ-
ность.
С тех пор на поэта, как на библейского Иова, обрушились тя-
желейшие испытания. Внезапная болезнь едва не прервала его
существование, на месяцы и годы принудила его бороться за
жизнь, долгое время ему было не до песен. Но чудо творчества
оказалось живительным, родничок стал пробиваться сквозь
немоту. Может быть, это уже и не был прежний Алейник, но
свежие образы начали вспыхивать здесь и там в его новой поэзии.
Ирина Машинская покидала Москву как раз в те дни, когда от
132 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Советского Союза начали отваливаться крупные куски, и из-под
обломков показались очертания совсем нового государства – так
в то время казалось многим. Несмотря на эйфорию момента, поэ-
тесса предпочла исторической новизне – новизну географии-
ческую (ведь по профессии она географ) и, в конце концов, посе-
лилась в Нью-Джерси, в одном из отрогов большого Нью-Йорка.
Конечно, многие стихи у неё обращены назад, в оставленное
там житьё-жильё, но чуткий слух улавливает иные ритмы, быст-
рую смену образов, и эту музыку она вбирает в свою поэзию. Му-
зыкальное, джазовое впечатление подчёркивается визуально, рас-
положением строк, как, например, в этом маленьком шедевре:
По стеклу поезда
налево вниз
ползла капелька
встретила капельку
и
съела капельку
и еще и еще капельку...
Много капелек
съела капелька
Что же касается нового дома (в широком смысле слова), то
поэтесса высказывается о нём с осторожностью, хотя и в целом
положительно или, во всяком случае, без отталкивания. Вот что
она сказала на эту тему в интервью на радио «Свобода»:
«Дом, я думаю, внутри нас... Если не было чувства дома там, а
оно у меня было, то оно вряд ли возникнет в другом каком-то
месте. Мне кажется, что человек либо склонен к этому чувству
дома, либо он к нему несклонен, и тогда ему всюду будет более-
менее плохо. Мне повезло: мне всюду более-менее комфортно. Я
вообще не склонна считать Америку неважным местом для поэта.
Мне так кажется, что она очень даже и подходит».
Однако она сама же и выстроила себе и другим настоящий
дом, в котором только и живёт поэзия. Я имею в виду журнал
«Стороны света», выпускаемый И. Машинской и кругом её дру-
зей. Под его крышей собираются не только новые, русскоязыч-
ные, но и родившиеся здесь американские поэты (в переводах,
конечно), имеется как электронная, так и бумажная версия жур-
Дмитрий Бобышев 133
нала, – для тех, кто любит полистать «настоящие» страницы.
Собственно, то же самое можно сказать о грицмановской «Ин-
терпоэзии» и «Антологии», изданной на материалах этого журна-
ла. Там собраны лучшие имена и живые литературные силы рус-
скоязычной Америки, да и всего Зарубежья. Я заметил имя Ины
Близнецовой, на стихи которой я писал рецензию с названием
«Бумага и огонь», Полины Барсковой, которой я вручал приз сла-
вистов «Золотая лира», Григория Мака, получившего высокие
похвалы от философа Михаила Эпштейна, Александра Стесина,
ныне печатающегося в толстых московских журналах, Риты Бар-
миной, нью-йоркской одесситки и художницы, и ещё многих до-
стойных поэтов и поэтесс, перед коими я приношу извинения за
неупоминание.
А ведь есть ещё маститый «Новый Журнал», традиционно пе-
чатающий материалы по истории литературы и воспоминания о
былом, но также и новейшую поэзию, прозу и критику. Уверенно
возглавляет журнал Марина Адамович, добывая средства не толь-
ко для его издания, но и для ежегодной премии имени Марка
Алданова на конкурсе прозаиков, а также для конференций и пре-
зентаций журнала.
Там же в Нью-Йорке продолжает выходить литературный
журнал и существовать издательство “Слово/Word”, которые дол-
гое время возглавляла Лариса Шенкер, добившаяся выхода в ин-
тернет через портал «Журнальный зал». Это хороший дом и
площадка для выступлений многих нью-йоркских поэтов. Я сам в
журнале не печатался, но выступал и издал у неё одну из своих
книг – «Ангелы и Силы». Теперь там главным стал Александр (не
Сергеевич) Пушкин, носящий по родовой преемственности это
прославленное имя.
Многие годы в Филадельфии выходил поэтический альманах
«Встречи», с 1983 года ставший преемником альманаха «Пере-
крёстки», издававшегося ранее. Материалы для «Встреч» состав-
ляла, собственноручно набирала и распространяла по библио-
текам (в том числе и российским) Валентина Синкевич, поэтесса
Второй волны. Тексты в выпусках перемежались рисунками и
репродукциями с картин художников, также эмигрантов. При-
мерно за тридцать лет существования ежегодника у неё печата-
лись, наверное, сотни поэтов всех волн.
Упомяну ещё один филадельфийский ежегодник «Побе-
режье», который издаёт Игорь Михалевич-Каплан. Он вмещает
134 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
огромное количество материалов, среди которых можно отыскать
весьма ценные. Вот что редактор пишет о своём детище: «В
шестнадцати номерах было опубликовано около тысячи авторов
– поэтов, прозаиков, критиков, публицистов, переводчиков, фи-
лософов, художников. В среднем объем ежегодника не менее 400
страниц текста и репродукций работ художников. На него
подписаны многие университеты США, Канады и Европы…».
В Филадельфии уже много лет существует журнал «Го-
стиная», основанный поэтессой Верой Зубаревой сначала для
узкого круга русскоязычных литераторов, а затем распространив-
шийся в сети и встроенный в гнездо с целым рядом отечест-
венных интернетских изданий.
Литературная подвижница и поэтесса Елена Дубровина живет
в том же городе и издаёт – одна! – сразу два иллюстрированных
журнала: «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зару-
бежная Россия: Russia Abroad Past and Present». В них она пе-
чатает стихи, исследования и воспоминания, сумев привлечь к
своим изданиям известные имена. Среди её авторов Андрей
Арьев, Сергей Голлербах, Вадим Крейд, Ирина Роднянская, Сер-
гей Сутулов-Катеринич, Игорь Шайтанов... Многоточие здесь
скрывает многих других нерядовых участников!
Вадим Крейд, в добавок к своим многочисленным работам по
истории русского Зарубежья, подготовил к печати два тома
большой антологии «Русские поэты Америки. Первая волна эми-
грации». Среди авторов – Лидия Алексеева, Нона Белавина, Нина
Берберова, Давид Бурлюк, Георгий Голохвастов... Достойные
поэты, они, может быть, уступали в лирической силе «Парижской
ноте», но писали, как и те, стихи «о самом главном»: любви,
одиночестве, красоте и природе. Появилась у них и новая тема –
Америка. Бурлюк футуристически, но уже устало бурлил что-то
по поводу бытового обслуживания. Напротив, у Нонны Бела-
виной нашлись слова для грациозной зарисовки Нью-Йорка. А
вот как увидел Коннектикут Владимир Дукельский «незамы-
ленным» взглядом (замечу только, что американцы не произносят
среднее «к» в названии штата):
Патриархален старый штат Коннектикут,
И не в почете праздные субъекты тут:
На них с презреньем смотрят старожилы
Из дачников искусно тянут жилы,
Дмитрий Бобышев 135
Прилежно копят дачниковы денежки.
Ничем Коннетикута не заменишь ты:
Дома там белокрасны, как редиски,
Крепчайший сидр, зловоннейшее виски.
Там церкви мятные напоминают пряники,
Отсутствие сумятицы и паники,
Присутствие девчонок загорелых,
Наивных, но по-своему умелых.
По пляжу ходят вольными оленями,
Всем улыбаясь голыми коленями,
Наследницы ветхозаветных янки:
Коннетикута барышни-крестьянки.
В них много женственного и жестокого,
Как в малолетней нимфе у Набокова.
И в барах, и в танцульках, и в аллеях
Нет недостатка в смуглых Лорелеях:
Лишь в мыслях, Казанова, ты лелей их.
Интриги виртуозные и наглые
Преследуются строго в Новой Англии.
Патриархален старый штат Коннетикут,
Где реки в живописном полусне текут.
Суров народ, кусаются лангусты –
И это намотай себе на ус ты.
Этот проект должен будет собрать под единой крышей все по-
коления русских поэтов-эмигрантов, осуществив, таким образом,
связь времён в едином американском пространстве.
«Связь времён» – так называется ежегодник Раисы Резник,
который она героически, по существу в одиночку, издаёт на тихо-
океанском побережье в Сан-Хосе. Альманах объединил не только
времена, но и поэтические имена, которые в таком сочетании
прежде, может быть, и не встречались. А здесь они представлены
и стихами, и отзывами друг о друге, составляя ассоциативные
цепочки, как бы следуя прекраснодушному призыву Булата
Окуджавы: «Возьмёмтесь за руки, ей-Богу!». Синкевич вспоми-
нает Елагина и чествует Голлербаха, Голлербах публикует нью-
йоркские наброски и стихи, написанные в Москве, Михалевич-
Каплан интервьюирует Марину Гарбер, она в ответ посвящает
ему стихи и рецензирует Михаэля Щерба, а Новиков-Ланской –
Евгения Рейна... Конечно же, всё это для того, «чтоб не пропасть
136 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
поодиночке» в страшной и безумно притягательной, если смот-
реть на неё издалека, Америке!
Но если уж туда попал, приходится думать и о конкретном, о
практическом: гонорары, книги, издатели... О гонорарах, поэт,
забудь. Некоторые дилетанты и дилетантки даже приплачивают
редакторам (в той или иной форме) за честь быть напечатанными.
А об издании книги стихов и говорить нечего: автор оплачивает
всё. Лишь в одиночных случаях может попасться бескорыстный
издатель (к тому же блестящий иллюстратор), как получилось у
меня с Михаилом Шемякиным. В результате такого «прямого
попадания» вышел великолепно изданный бестиарий «Звери св.
Антония».
И ещё один подобный пример: американский славист Чарльз
Шлакс, энтузиаст русской литературы, живущий в Калифорнии.
Это он в одиночку издаёт упомянутые журналы Елены Дубро-
виной. Сверх того, совсем недавно Шлакс напечатал её моно-
графию «Юрий Мандельштам», в которой Елена Дубровина в со-
трудничестве с Мари Стравинской, внучкой Ю. Мандельштама,
по существу, спасают от забвения поэта (однофамильца ещё двух
Мандельштамов – Осипа и Роальда), погибшего в нацистском ла-
гере уничтожения. Этому же издательству, штат которого состо-
ит из одного человека довольно преклонного возраста, я обязан
выходу моей трилогии воспоминаний «Человекотекст».
Не исключаю другие мнения, но, как говорится, «от трудов
праведных не нажить палат каменных». Поэзия как раз и является
таким праведным занятием, в особенности, если это русская
поэзия, и в особенности в иноязычной среде и культуре. Но в
Америке есть другие способы пропитания, а потому здесь можно
независимо ни от кого спеть свою песню и быть услышанным.
Урбана-Шампэйн, янв. 2015 г.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 137-146.
Анатолий ЛИБЕРМАН Миннеаполис, США
НЕГРОМКИЙ ГОЛОС ЕВГЕНИЯ БОРАТЫНСКОГО Имя Боратынского известно очень многим, но не читает его почти никто. Его знают даже меньше, чем Тютчева, от которого остались в народной памяти два стихотворения, заученные в дет-ском саду, и до дыр затрепанная цитата. Боратынский дошел до широкой публики только романсом Глинки («Не искушай меня без нужды») и несколькими афоризмами. Начало его поэтичес-кого пути было блистательным (сам Пушкин завидовал его элеги-ям), но вскоре он вышел из моды. К падению его популярности приложил руку и неистовый Виссарион, считавший взгляды Бо-ратынского реакционными: Белинский жаждал прогресса, а Бора-тынского мутило от «развития капитализма в России». Но и без Белинского его перестали бы читать, ибо как поэт он шел в ногу со своим временем. В одном из своих программных стихотворений (1831) Бора-тынский говорит, что, еще будучи совсем молодым, предпочел законы вечной красоты миражам мятежных страстей:
В дни безграничных увлечений, В дни необузданных страстей, Со мною жил превратный гений, Наперсник юности моей. Он жар восторгов несогласных Во мне питал и раздувал; Но соразмерностей прекрасных В душе носил я идеал: Когда лишь праздников смятенья Алкал безумец молодой, Поэта мерные творенья Блистали стройной красотой. Страстей порывы утихают, Страстей мятежные мечты Передо мной не затмевают Законов вечной красоты; И поэтического мира
138 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Огромный очерк я узрел, И жизни даровать, о лира! Твое согласье захотел. Осень 1831
Что-то сломалось в Боратынском, когда выяснилось, что пуб-лика тоже алкала праздников смятенья, а не «согласного» очерка поэтического мира. Среди самых известных его стихов один на-чинается словами: «Мой дар убог, и голос мой не громок». Много раньше, раздосадованный изменой, Боратынский собирался «плутом быть с плутовкой» и восклицал: «Как здравым смыслом я убог!», а совсем юным он написал гимн страданью (ибо, «не познав его, нельзя понять и счастья») и был готов согласиться, что «мнимым счастием для света мы убоги». Но то – здравый смысл и мнимое счастье: не иметь их иногда почтенно. Убогий дар – это нечто совсем иное. Мысль об убогости таланта мучила Боратынского и раньше. В 1824 г., сравнивая себя с Батюшковым, Жуковским, Пушкиным, он писал («Богдановичу»): А я, владеющий убогим дарованьем, Но с рвением горя полезным быть и им, Я правды красоту даю стихам моим, Желаю доказать людских сует ничтожность И хладной мудрости высокую возможность. Что мыслю, то пишу. Эти строки читаются, как первый вариант приведенной выше исповеди «В дни безграничных увлечений», но в 1824 г. Боратын-ский еще немного кокетничал, ибо верил, что не затеряется и рядом с великими. Однако прошло несколько лет, публика стала забывать своего недавнего любимца, и осталось утешение, что хотя бы далекий потомок прочтет его стихи («И, как нашел я друга в поколенье, / Читателя найду в потомстве я»). Но и на по-смертное признание надежды мало: Когда твой голос, о поэт, Смерть в высших звуках остановит,
Анатолий Либерман 139
Когда тебя во цвете лет Нетерпеливый рок уловит, – Кого закат могучих дней Во глубине сердечной тронет? Кто в отзыв гибели твоей Стесненной грудию восстонет, И тихий гроб твой посетит, И, над умолкшей Аонидой Рыдая, пепел твой почтит Нелицемерной панихидой? Никто! – но сложится певцу Канон намеднишним Зоилом, Уже кадящим мертвецу, Чтобы живых задеть кадилом.
Не позже 1843 г. Боратынский упорно пытался понять, почему так недолго был он властителем дум. Он ревниво сравнивал себя с Пушкиным и все глубже впадал в отчаянье. Его мучил вопрос: «Талантлив ли я? Не убог ли дарованьем?» Он написал (видимо, в 1835 г.) удивительное стихотворение с несколько загадочным названием «Недоносок» (это слово скорее означает «мертворожденный»). Оно начинается так: Я из племени духòв, Но не житель Эмпирея, И, едва до облаков Возлетев, иду слабея. Как мне быть? Я мал и плох; Знаю, рай за их волнами, И ношусь, крылатый вздох, Меж землей и небесами. Все стихотворение (56 строк) – это монолог Недоноска, но в конце возникает другой голос:
140 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Мир я вижу как во мгле; Арф небесных отголосок Слабо слышу... На земле Оживил я недоносок. Отбыл он без бытия: Роковая скоротечность! В тягость роскошь мне твоя, О бессмысленная вечность!
После многоточия говорит автор. Бытие – любимое слово Боратынского (оно встречается 35 раз). «…на земле мое / Кому-нибудь любезное бытие», – писал он, извиняясь за убогость дара и тихий голос. Через семь лет он решил, что его поэзия была мертворожденной и бытия не имела. От «Недоноска» один шаг до безысходности «Сумерек»:
Зима идет, и тощая земля В широких лысинах бессилья, И радостно блиставшие поля Златыми класами обилья, Со смертью жизнь, богатство с нищетой – Все образы годины бывшей Сравняются под снежной пеленой, Однообразно их покрывшей, — Перед тобой таков отныне свет, Но в нем тебе грядущей жатвы нет! «Осень»
Итак, с ранней юности «поэта мерные творенья блистали стройной красотой». Что же мерного было в поэзии Боратын-ского и в чем стройность его красоты? Как всякий великий мас-тер, Боратынский искал своего пути в искусстве. Его совершенно не устраивало быть «поэтом пушкинской поры». Никто другой не противопоставлял себя Пушкину так безжалостно, как Боратын-ский. В часто цитируемом предисловии к поэме «Эда» он заявил: «…в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он [сочинитель] не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь всту-
Анатолий Либерман 141
пить в состязание с певцом Кавказского пленника и Бахчисарай-ского фонтана. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Не-сколько лет занимаясь поэзиею, он заметил, что подобные без-делки принадлежат великому дарованию, и следовать за Пуш-киным ему показалось труднее и отважнее, чем идти новою, собственную дорогою». О том же и стихотворение «Не ослеплен я музою моею». Его муза не красавица и не франтиха; она не флиртует с юношами и не блещет красноречием. «Но поражен бывает мельком свет / Ее лица необщим выраженьем. / Ее речей спокойной простотой». Подобные заявления – общее место европейской поэзии, но их предсказуемость, почти формульность не делает их менее искренними. Пушкин был совершенен и в романтической, и в иронической поэме, и в элегии, и в эпиграмме. Не желая состязаться с ним в «Эде», Боратынский отказался от романтической приподнятости. Свои взгляды на поэзию он изложил с исключительной ясностью в «посланиях» (особенно Богдановичу и Гнедичу), в стихах «Не подражай: своеобразен гений…», «Когда на играх Олимпий-ских…» («Рифма»), «Когда печалью вдохновенный…» и многих других. Но главное не то, что он прокламировал, а то, как он пи-сал. Прекрасная соразмерность и стройная красота – это идеал античных поэтов. Чувство меры, прославленное русскими поэта-ми, а в Средние века миннезингерами, было избрано Боратын-ским как главный критерий совершенства. Язык романтиков именно «громок», а язык Боратынского сознательно приглушен. В 1841 году Лермонтов записал в альбом Карамзиной:
Любил и я в былые годы, В невинности души моей, И бури шумные природы, И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг, И мне наскучил их несвязный И оглушающий язык.
Боратынский тоже любил те бури, а демон-искуситель обучал его несвязному и оглушающему языку современников. Отказ от языка, на котором говорили все (и говорили превосходно), обрек
142 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Боратынского на одиночество. Свою неспособность или свое нежелание плыть по течению он стал воспринимать как слабость («мой дар убог»), но высоких нот так себе и не позволил («голос мой негромок»). «Эда» – поэма о том, как русский гусар со-блазнил и тем привел к гибели финскую девушку. Речь собла-знителя послужила образцом для одного из монологов лермон-товского Демона (ср. «Лишь мраки ночи снизойдут / И сном глубоким до денницы / Отяжелевшие зеницы / твои домашние сомкнут, / Приду я к тихому приюту / Моей любезной»), но как сдержанно говорит гусар по сравнению с Демоном! Эда чувст-вует, что довериться ему нельзя: «Ей смутно сердце говорило, что не был прост его язык». Так осудить соблазнителя мог один лишь Боратынский, искавший в поэзии ясности, лишенной хитро-умного подтекста. Но не следует думать, что «прост» был язык самого Боратын-ского. Язык искусства всегда нарочит, ибо иначе искусство сли-лось бы с реальностью. Птицы, принимающие нарисованное яблоко за живой плод, – мечта неискушенной публики, а не художника. Боратынский не был врагом романтизма. Скорее напротив: его элегии и поэмы вполне отвечали духу времени, но, чтобы не стать эпигоном Байрона ли, Пушкина ли, французов ли, ему нужна была система «необщих» выразительных средств, своя, ни на кого непохожая непростота. Мы, прежде всего, замечаем крайнюю перегружен-ность стихов Боратынского античными именами. Кроме постоян-ных Харит и Камен, у него фигурирует весь Олимп, Япетов сын (Прометей), Оден и Озирид, но эти имена не смущали людей, во-спитанных на антологической поэзии. Не смущала их и архаика, хотя едва ли строчки из «Смерти»: «И ты летаешь над твореньем, / Согласья прям его лия», – звучала естественно даже в 1828 году (пря = распря; прям – дательный падеж множественного числа от пря: «И ты летаешь над миром, заливая согласьем его распри»). Главное языковое своеобразие Боратынского в его словаре и син-таксисе. Русские поэты первой половины ХIX в. пользовались мно-жеством слов, о которых мы не всегда знаем, были ли они спе-циально употреблены, чтобы озадачить, или «так тогда гово-рили». В контексте эти слова кажутся понятными, но, вырванные из своего окружения, они не могут не вызывать удивления. Вот лишь несколько примеров из Боратынского: несогласные востор-
Анатолий Либерман 143
ги, доступный дух («но здесь еще живет его доступный дух» = его дух еще не покинул этих мест), сочувственная душа, несроч-ная (= бессрочная, бесконечная) весна, срочные (= быстротеку-щие) дни, пролетное мгновенье, затвор досадный (есть у Бора-тынского и досадная муха), недружная судьба, разгульный жар (стихов), превратный гений (=капризный? искажающий все во-круг?), возвратные сновидения (= сны о прошлом?), шутливый досуг, прямая (= тяжелая, несомненная?) утрата, догадливое перо (как догадливая Харита), Жуковский живописный и т.д. Таких со-четаний десятки. Они замедляют чтение, разрушают гладкопись и заставляют задуматься над сложностью бытия. Головокружительные эпитеты Маяковского, барочные сравне-ния Олеши и даже самовитое слово Хлебникова не слишком бы удивили Боратынского. Кто сказал: восторженная тишь, внима-тельные закаты, игрушечный удел и стигийская нежность? Тот же, кому принадлежат фразы: задумчивая тоска, улыбчивые сны, насильственная лоза, готическая слава и непреклонная ограда? Нет! Непреклонная ограда из Лермонтова, насильственная лоза и готическая слава из Пушкина, остальные два сочетания из вто-рого списка из Боратынского; весь первый список из Мандель-штама. Необычны не только эпитеты Боратынского. Из послания Бог-дановичу мы узнаем, что Батюшков, Жуковский и Пушкин не мо-гут победить (по другой версии: поделить) сердечного волнения. Что это значит? Разница между Боратынским и модернистами ХХ в. не столько в изобретательности, сколько в чувстве меры («соразмерности»). Модернисты могли бы поставить то же ука-зание к своим стихам, которыми эпатировал слушателей молодой Сергей Прокофьев: его Первый концерт для фортепьяно с оркест-ром следует играть «con pugno» («кулаком»). Такое отношение к музыке и поэзии Боратынский бы не одобрил. Сродни словарю и синтаксис Боратынского. Приведенные вы-ше строчки о смерти («И ты летаешь над твореньем, / согласья прям его лия») и без прям довольно запутаны. О «последнем поэте» сказано так: Воспевает, простодушный, Он любовь и красоту И науки, им ослушной, Пустоту и суету:
144 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Мимолетные страданья Легкомыслием целя, Лучше, смертный, в дни незнанья Радость чувствует земля. Прежде всего, непонятно, почему поэт воспевает (= прослав-ляет?) пустоту и суету науки, нарушающей законы любви и кра-соты. Или он настолько простодушен, что не ведает, что творит, и «воспевает» враждебные друг другу вещи? Но эта сложность не синтаксическая. Вопрос о связях в строфе возникает позже. Кончается ли на четвертой строке предложение? Как кажется, лучше было бы поставить после суету запятую, а после целя – точку: простодушный поэт не столько воспевает все подряд, сколько поет (рассказывает) о любви, красоте и науке с ее черст-востью и тщетой, исцеляя своим простодушием (легкомыслие = простодушие) преходящие горести людей. Смертный – обраще-ние. То, что земля и живущие на ней теряют счастье от педан-тичного («пустого и суетного») знания, – часто повторяющаяся мысль Боратынского, но связь последних двух строчек с преды-дущими все равно не ясна. Эти строки могли бы быть прямой речью, словами поэта, но они авторский комментарий, и после целя разумнее было бы поставить точку. Боратынский очень тща-тельно готовил свои стихи к печати и многократно их переделы-вал. В издании Гофмана (1914), в котором воспроизведены первые прижизненные варианты стихов, точка стоит после суету (а после смертный – восклицательный знак), но более поздние издатели запутались в строфе и решили спасти дело двоеточием. Это двоеточие ничего не проясняет. Читая Боратынского, постоянно задумываешься. Толпа боится «раскованной мечты видений своевольных» («Толпе тревожный день приветен, но страшна…»). Что такое мечта видений, даже если мечта раскованная, а видения своевольные? А это не мечта видений, а видения мечты! «Недаром ты металась и кипела, / Раз-витием спеша, / Свой подвиг ты свершила прежде тела, / Бе-зумная душа! / И, тесный круг подлунных впечатлений / Со-мкнувшая давно, / Под веяньем возвратных сновидений / Ты дремлешь, а оно / Бессмысленно глядит, как утро встанет…/ «На что вы, дни! Юдольный мир явленья…»). Кто оно? Тело, ко-нечно, упомянутое за пять строк до того. Легковесность роман-
Анатолий Либерман 145
тических всплесков Боратынский с лихвой заменил утяжелен-ностью материи. Не много есть работ о Боратынском, в которых не приводится высказывание о нем Пушкина: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Это высказывание, якобы, подтверждает, что Боратын-ский – поэт-философ, то есть человек, излагающий в рифму чужие мысли об устройстве мироздания. Но даже если отвлечься от ярлыка «поэт-философ», все равно Пушкин не имел в виду, что одни поэты способны осмыслить увиденное, а другие безмоз-глы. Мыслить для Пушкина означало идти своей дорогой, тво-рить осознанно, не бездумно. И о Вяземском он сказал, что его критические статьи «носят на себе отпечаток ума тонкого, на-блюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мы-слями, но они заставляют мыслить». В обоих отзывах мыслить и оригинален – синонимы. От самостоятельной мысли и необщее выражение лица. Удивительно, как рано Боратынский познал себя! Ему был 21 год, когда он впервые сказал: «Незвучный голос мой». Но в конце жизни он же сказал о певце: «Там, быть может, в горном клире, / Звучен будет голос твой!» Того хора нам услышать не дано, но на земле негромкий голос Евгения Боратынского все так же чист, как и полтора века тому назад. .
146 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Сергей Голлербах. Нью-Йорк, США. «На улице». Рисунок пером.
(из архива альманаха «Встречи)
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 147-161.
Александр КАРПЕНКО Москва, Россия ЭЗОТЕРИКА ФЁДОРА ТЮТЧЕВА ЧАСТЬ 1. ЗОЛОТО МОЛЧАНИЯ Как над горячею золой Дымится свиток и сгорает, И огнь, сокрытый и глухой, Слова и строки пожирает, Так грустно тлится жизнь моя И с каждым днём уходит дымом; Так постепенно гасну я В однообразье нестерпимом!.. О небо, если бы хоть раз Сей пламень развился по воле, И, не томясь, не мучась доле, Я просиял бы – и погас! Несмотря на некоторую архаичность лексики Тютчева, сдоб-ренную, впрочем, точностью её употребления, стихотворения по-эта удивительно современны. Человек как жил «в однообразье нестерпимом», так и живёт по сей день. Не помогает даже повсе-местно растущая индустрия развлечений. Однообразие настигает человека уже в детском саду. Дом – детский сад – дом, затем дом – школа – дом, затем школа сменяется вузом, затем вуз сменяется работой и т.д. Конечно, везде случаются маленькие, выходящие вон из ряда события, но всё это – тоже ненадолго. Даже жизнь поэта, несмотря на большее разнообразие, мало чем отличается в этом смысле от жизни обычного человека. Разве что поэт пере-живает такой замкнутый круг намного острее. Ему страшно, что он «гаснет». Тютчев сравнивает свою жизнь с медленно сгораю-щим свитком, на котором записаны мысли и строки. «Угасание» жизни поэта следует понимать двояко: как угасание «временное», всецело обусловленное длящимся нестерпимым однообразием, и как угасание эзотерическое, постепенное угасание биологической жизни.
148 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
– Как же так? – возмутитесь вы. – Ведь рукописи не горят! Но свиток со стихами и не горит у поэта. Он… дымится. А поэту не хочется быть рукописью. Он хочет быть звездой. И всё своё «нестерпимое однообразие» отдать за один миг яркого, человеко-любивого горения. Сгореть, в эстетике Тютчева, «гуманнее», нежели долго тлеть. И, я думаю, многие предпочли бы жизни долгой, но однообразной, жизнь короткую, но яркую, как метеор. И не дышать собственным дымом. Кто же не хочет «настоящей» жизни?! И тогда герой Тютчева совершает свою знаменитую эскападу, найдя убежище от унылой и однообразной внешней жизни… в себе самом. Подобно Гамлету, последними словами которого были: «Дальше… молчание», герой Тютчева восклицает то же самое: «Дальше… silentium». Но, если Гамлет с этими словами уходит из жизни, то для тютчевского героя, наоборот, жизнь только начинается. Silentium! ___________ Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои – Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне Безмолвно, как звездЫ в ночи, – Любуйся ими – и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, – Питайся ими – и молчи. Лишь жить в себе самом умей – Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи, – Внимай их пенью – и молчи!..
Александр Карпенко 149
Человек-улитка – это звучит гордо! Но добровольное затвор-ничество поэта возможно, только когда для этого есть какая-то духовно-человеческая база. Трудно представить себе, например, ушедшего в себя Маугли. Если читать внимательнее, мы не обна-ружим в тексте Тютчева прямого призыва к самозаточению. Он только советует не выплёскивать наружу всё самое сокровенное, а, наоборот, хранить всё это в себе. И тут же поясняет, почему так следует поступить: люди могут не понять человека, и всё самое светлое в нём окажется оплёванным, или, в лучшем случае, непонятым. Но, если мы будем читать ещё внимательней, мы поймём, что опасность не только в этом. Нужно дать сокровен-ному в душе вызреть и взойти. А как это сделаешь «в суете кар-навала»?! В сущности, поэт прямо говорит нам о том, ЧТО нужно таить от «сглаза» – чувства и мечты. Здесь он прав вдвойне. Когда чувства становятся объектом сплетен и слухов, это отравляет жизнь. Более того, чувствам и мечтам, отягощённым злословием, труднее сохранить самих себя. Прессинг мёртвого шепотка во-круг любви вынуждает любящих защищаться, тратить дополни-тельные силы на преодоление последствий огласки. Это особенно актуально, если кто-либо из любящих несвободен. Знаменитое стихотворение Тютчева очень полифонично. Поэт пишет: «…лишь жить в самом себе умей…». И действительно, интро-вертов, людей, умеющих расширять свою душу до целой все-ленной, гораздо меньше, нежели экстравертов. Чтобы познать мир эзотерически, нужно глубже заглянуть в самого себя! А лучше всего делать это ночью: Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум; Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи… Фёдор Тютчев всегда отдаёт предпочтение ночи, в духовном плане. Сейчас у многих людей ночь больше ассоциируется с про-жиганием жизни в казино и ресторанах. Во времена Тютчева го-родские ночи были тише, а дни воплощали в себе бестолковость суеты. Если добавить к этому тот факт, что Фёдор Иванович днём напряжённо работал на русское государство и не мог заниматься
150 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
«жизнью в самом себе», не приходится удивляться тому пред-почтению, которое он оказывал тихой ночи. Это стихотворение Тютчева и сейчас звучит, повторюсь, по своему смыслу, а не по лексике, очень свежо. В нём есть, помимо всего прочего, бессмертная строка, благодаря которой оно никог-да не умрёт. «Мысль изреченная есть ложь». Эта строчка стала одним из наиболее часто цитируемых не только в литературе, но и в повседневной жизни афоризмов. Что не удивительно: это одна из самых загадочных фраз во всей мировой литературе. Практически все классики, наши и зарубежные, зачитаны до дыр. Но многие ли из них поняты и осознаны? Сильно в этом сомневаюсь. «Прочитывается», как правило, только то, что лежит на поверхности. В случае с данной тютчевской фразой читатели, как правило, «снимают» только пенку, наиболее общий смысл, то, что слова неспособны передать – всё богатство человеческой души, весь сокровенный смысл движений сердца. Именно поэ-тому, мысль человеческая есть «полуправда», а полуправда часто хуже откровенной лжи. Однако есть и другие смыслы этого крылатого изречения, которые остались «в засаде», в тени основ-ного. Кстати, я полагаю, именно «иные» смыслы и обеспечивают живучесть в веках того или иного произведения. Существует версия, связанная с различным лингвистическим богатством разных языков. И дело даже не в том, что, допустим, английский язык богаче китайского. Просто одна и та же мысль, выраженная на разных языках, обладает разной степенью при-ближённости к истине. Я не раз сталкивался с подобным явле-нием как переводчик. Впрочем, не стоит полагать, что мысль, ко-торую «умолчали» и затаили в себе, «правдивее» мысли про-изнесённой или занесённой на бумагу. Несомненно, мысль, нашедшая своё пристанище на бумаге, может быть «лжива» ещё и потому, что художник пишет в мо-менты величайшего подъёма духа. Привередливый читатель, наблюдая жизнь писателя в быту, «пока не требует поэта к свя-щенной жертве Аполлон», невольно сравнивает «слишком чело-веческую» жизнь мастера с его творениями и делает неутеши-тельный для писателя вывод, что тот в своих писаниях лжёт. Лжёт по отношению к тому, кем он является в обычной жизни. Следующая версия заключается в том, что жизнь так быстра, изменения в душе подчас столь революционны, что мысль попро-сту не поспевает за изменчивостью жизни. То есть изречённая
Александр Карпенко 151
мысль лжива не сразу, а в ближайшей перспективе. Мы что-то го-ворим, а через секунду мир уже другой, и высказанная секундой ранее фраза уже отражает наш внутренний мир искажённо. И, чтобы не уводить читателя ещё дальше в лес, то бишь в микро-мир тютчевских истин, остановлюсь, наконец, на версии, которая лично мне представляется одной из самых важных. «Мысль из-реченная есть ложь» потому, что мы часто пытаемся объяснить словами слишком сложные и неоднозначные явления. Явления, которые очень неохотно «ловятся» на простые слова, слетающие, подобно осенним листьям, с языка. Однако и такие явления по-рой «попадаются на удочку» афоризма, парадокса, метафоры, мифа или притчи. Что и удалось с присущим ему блеском вели-кому русскому поэту Фёдору Тютчеву. Я думаю, что мысль о «лживости» изречённой мысли пришла к Тютчеву не спонтанно – он ещё не раз, в той или иной форме, возвращался к ней в других стихотворениях, что происходит в тех случаях, когда что-то занимает человека всерьёз и надолго. Например, в стихотворении «Фонтан» Тютчев восклицает: «О смертной мысли водомёт!». Поразительно! Поэт верит в бес-смертие души, но отрицает бессмертие мысли. Для меня это тем более удивительно, что я придерживаюсь прямо противополож-ных взглядов. И даже могу проиллюстрировать, почему Тютчев не прав. Например, я не вижу ничего в будущем, что помешало бы жизни в веках вот этому изречению Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Разве что самоуничтожение человечества может положить конец и этой фразе. И то, она должна будет сохранить-ся в так называемом информационном поле Земли. Но может быть, Тютчев говорит нам вовсе не об этом? Для пущей нагляд-ности приведу это замечательное стихотворение целиком. Смотри, как облаком живым Фонтан сияющий клубится; Как пламенеет, как дробится Его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он Коснулся высоты заветной – И снова пылью огнецветной Ниспасть на землю осуждён.
152 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
О смертной мысли водомёт, О водомёт неистощимый! Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя мятёт? Как жадно к небу рвёшься ты!.. Но длань незримо-роковая Твой луч упорный, преломляя, Свергает в брызгах с высоты. <1836> Какое великолепие красок! Какое изысканное сравнение! И даже архаичное «длань» здесь работает, как неологизм: «длань» – это «то, что длится». Я почти убеждён, что поэт говорит здесь о смерти. Это её «длань незримо-роковая» обрывает человеческую мысль. Но почему я так уверенно называю Тютчева эзотериком? Да потому, что эти строки можно трактовать и по-иному. «Длань незримо-роковая» – это рука Господа Бога, это тот невидимый потолок, дальше которого человеческой мысли идти просто опасно. Разум человека не готов охватить и осмыслить непости-жимое, и всё это чревато гибелью разума. Проще говоря, безу-мием. Тютчев – убеждённый агностик. Он верит в непостижи-мость мира. Как постичь непостижимое?
ЧАСТЬ 2. СТИХИАЛИ ДУШИ О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно?.. Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шумно? Понятным сердцу языком Твердишь о непонятной муке – И роешь и взрываешь в нем Порой неистовые звуки!.. О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой! Из смертной рвется он груди, Он с беспредельным жаждет слиться!..
Александр Карпенко 153
О, бурь заснувших не буди – Под ними хаос шевелится!.. Фёдор Тютчев остро чувствовал стихийность бытия, будучи, в этом смысле, предтечей Александра Блока. Как и Блок, он пытал-ся противопоставить атакующим его стихиям порядок в быту и космос в творчестве. Мне кажется, Тютчеву очень повезло, что он находился на дипломатической службе за рубежом: он, чело-век, слышащий стихии, не спился, с достоинством вынес смерть любимой женщины и дожил до глубокой старости, напоследок подарив нам несколько истинных шедевров, не уступающих лучшим образцам его лирики. Фёдор Тютчев – пожалуй, первый русский писатель, дерзнув-ший писать о непонятном, невыразимом, осмелившийся задавать вопросы, на которые он не знал ответов. И стихотворение о вою-щем ветре в этом смысле – очень «тютчевское» произведение. Поэт почему-то исходил из того, что человек и окружающая его природа должны быть едины, он, можно сказать, был убеждён-ный пантеист. Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поёт, что море, И ропщет мыслящий тростник? Мне, однако, не совсем понятно, отчего поэт решил, что чело-век и природа должны «петь» в унисон? Оттого, что человек – часть природы и «венец творения»? Однако «разум» и «душа» природы не имеют ничего общего с разумом и душой человека! Постоянство природы призрачно: какой-нибудь вулкан спит ты-сячу лет, а потом ни с того ни с сего вдруг, как дракон, начинает извергать огонь. Здесь, на мой взгляд, важно понять то, что Тют-чев именно лирик, а не философ, хотя некоторые его творения, без сомнения, можно отнести к философской лирике. Пушкин, как мыслитель, по-моему, гораздо убедительнее. Просто Тютчеву удались некоторые афористические парадоксы («умом Россию не понять», «мысль изреченная есть ложь», «природа – сфинкс», «нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся»), и это за-крепило за ним славу поэта-философа. Тем не менее, стихот-ворение «О чём ты воешь, ветр ночной» настолько поэтично,
154 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
настолько необычно по замыслу, что невозможно стряхнуть с се-бя его изысканное очарование! Ветер у Тютчева одушевлён: это – голос самой природы. Ветер «понятным сердцу языком/ твердит о непонятной муке». Вслед за ним, то же самое твердит нам сам поэт, и тоже «понятным сердцу языком». «Ученик» ветра, он пытается поведать нам о сладкой мучительности своих ночных бдений. Надо сказать, что отношения поэта и ночи достойны, пожалуй, отдельной диссертации. Тютчев боготворит ночь, как любимую женщину. Он называет её «ночь святая». Одновременно он стра-шится окунуться в хаос мироздания, особенно чутко ощущаемый ночью. «И нет преград меж ей и нами – вот отчего нам ночь страшна!». В стихотворении о воющем ветре поэт умоляет ветер: «О, страшных песен сих не пой / Про древний хаос, про роди-мый». Но запретный плод сладок, и потому так трудно им не соблазниться: «Как жадно мир души ночной / Внимает повести любимой!». И страшно, и сладко, и «некому руку подать»... В сущности, душа поэта жаждет вернуться в первоначальную сти-хию, из которой она пришла в этот мир. Веком позже этот не-умолкаемый зов в первородный хаос блестяще опишет в своей прозе Говард Филлипс Лавкрафт. Наверное, можно трактовать этот порыв, как устремление в Единое, к Богу... Парадокс: слиться с Творцом подчас мешает человеку то обстоятельство, что он, человек... живой. Как ни крути, а жизнь и Бог, как говаривал Пушкин, «две вещи несовместные». Конечно, жизнь легко и бесповоротно «лечится» умиранием, но вот вам ещё один парадокс: это желание слиться с Беспредельным сильнее всего в человеке именно тогда, когда он ещё полон сил и страшно далёк от роковой черты. Именно тогда страх покинуть этот мир и мистическое желание уйти из мира равновелики. И не случайно апокалиптический «Последний ката-клизм» несёт у Тютчева такое жизнеутверждающее и оптимис-тическое звучание: Когда пробьёт последний час природы, Состав частей разрушится земных. Всё сущее опять покроют воды – И Божий лик отобразится в них...
Александр Карпенко 155
Вообще, стихии и беспредельное – это, наверное, скорее тема музыки, нежели литературы. Дай идею о говорящем ветре, на-пример, Шопену – не сомневаюсь, он сумел бы ответить музыкой на все мучительные вопросы души. Но Тютчев был поэтом. Он знал, что немецким романтикам, в частности, Новалису, удава-лись такие мистико-философские произведения, как проникно-венные «Гимны к Ночи». К тому же, он сам жил в Германии. И спасибо ему за эту веру в себя как поэта – благодаря ему, русская поэзия обогатилась бессмертными произведениями. Ещё одно «знаковое» стихотворение Тютчева удивительно тем, что автор удерживает в нём многополюсный взгляд на мир: и сверху, и изнутри. Как океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами; Настанет ночь – и звучными волнами Стихия бьет о берег свой. То глас её; он нудит нас и просит... Уж в пристани волшебный ожил челн; Прилив растёт и быстро нас уносит В неизмеримость тёмных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, – И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены. Это надо было увидеть за сто лет до полёта первого человека в космос! Действительно, великий Океан словно бы «обнимает» свою возлюбленную, Землю. Очень чувственное стихотворение! Причём его чувственность... духовна! Строка «земная жизнь кру-гом объята снами» – многосмысленна, это величественная иллю-зия «спящей» вселенной, окружающей человека. Люди засыпают, но зато просыпается стихия, зовущая человека в неизведанное. Днём голос души заглушает суета сует, зато ночной «эфир» чище, изредка волнуемый редкими собаками да петухами, вот и вызревает душа поэта в молчании вселенском, вот и сливается она с мирозданием. И непонятно у Тютчева, что преобладает в этом слиянии – торжество или страх. Как бы там ни было, Фёдор
156 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Тютчев, с его «мыслящим тростником», вполне заслуживает быть названным «русским Паскалем». Его мироощущение, дошедшее до нас в стихотворной форме, очень родственно взглядам велико-го французского математика и философа. Многие читатели подумают, что автор «наговаривает» на поэта, приписывая ему эзотерику – то, чего ещё «не сущест-вовало» в природе, поскольку не было названо. Это всё равно, что Гераклиту приписать материализм или Гомеру – сюрреализм. Но я могу возразить на это тем, что каждый поэт, в широком смысле слова, – эзотерик. Конечно, сочинения Тютчева страшно далеки по тематике от сочинений, например, г-жи Блаватской. Но он, может быть, первым в русской литературе заговорил о «двой-ном» бытии. В сущности, разноуровневое многосмыслие произ-ведения и есть эзотерика. И пусть даже Фёдора Тютчева нельзя назвать в полной степени эзотериком, разве это сколько-нибудь умаляет его достоинства? Разве не интересно обнаружить в его произведениях крупинки этой самой эзотерики, как старатели находят крупинки золота в просеиваемой породе? Скажу больше: эзотерика Фёдора Ивановича ценна нам вдвойне, как священная «обмолвка», как песня первопроходца. Душа хотела б быть звездой; Но не тогда, как с неба полуночи Светила эти, как живые очи, Глядят на сонный мир земной, – Но днём, когда, сокрытые как дымом Палящих солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом.
ЧАСТЬ 3. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ГРЁЗА ПРИРОДЫ От жизни той, что бушевала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась, Что уцелело, что дошло до нас? Два-три кургана, видимых поднесь... Да два-три дуба выросли на них, Раскинувшись и широко и смело.
Александр Карпенко 157
Красуются, шумят, – и нет им дела, Чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаём Себя самих – лишь грёзою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный, Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной. 17 августа 1871 «Всё времени жерлом пожрётся – и общей не уйдёт судьбы», – предупреждал нас о неизбежном ещё Гавриил Романович Дер-жавин. Тот самый, что «в гроб сходя, благословил» совсем юного Пушкина. Как же свободна была мысль человека 18-го – 19-го веков! Ему не было дела до «презренной пользы», он не задумы-вался о том, что его правдивые мысли могут оказать пагубное влияние на психику окружающих. Конечно же, в приведённом выше стихотворении мы видим у Тютчева чистой воды эзоте-рику – немножко наивную, по поэтичную попытку «всё познать в сравнении». По прошлому распознать будущее. По тому, как на-ступившее настоящее грезилось предкам поэта далёким буду-щим. Прошедшей жизни нет места и пространства в нынешней: сосуществование двух разновременных жизненных потоков было бы явлением весьма странным и малопродуктивным. Поэтому погосты, стихи и руины – едва ли не единственное, что мы видим в текущей жизни из прошедшего. Далеко не все памятники архи-тектуры истреблены людьми и временем, но сегодня уже трудно представить себе жизнь, что кипела внутри этих прекрасных строений до нашего появления на свет. В сущности, культура, как ни печально это сознавать, это одинокие пустынные памятники человеческой жизнедеятельности, из которых уже выветрился навсегда былой дух. Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы,
158 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
И перед ней мы смутно сознаём Себя самих – лишь грёзою природы. Получается, память – категория чисто человеческая! Природа, в отличие от человека, живёт забвением. Потому, видимо, у Тют-чева и «душа не то поёт, что море». Такая горечь в этой правде и такая красота в этой поэзии, что мы даже не замечаем баналь-ность, с современной точки зрения, ритма и рифм стихотворения. Только интегральное сознание поэта способно обозреть Многоя-русный Мир во всей его цветущей сложности. Таких людей и в 19-м веке, и в 20-м было немного. И залог бессмертия Тютчева не только в глубине его поэтических строк, но и в малом количестве людей с такой глубинной простотой понимания сложности. Конечно, будет преувеличением утверждать, что во времена Тютчева любая жизнь была своего рода подвигом. Поэт упот-ребляет слово «подвиг» в свете вечности и грядущего истреб-ления следов жизни отдельно взятого человека. Иногда такое разрушение происходит ещё при нашей жизни – ностальгические места детства и юности стираются с лица земли в угоду так называемому «прогрессу». Со временем жизнь меняет свои фор-мы, и то, что было наверху, постепенно оказывается под толщей земли. В случае с извержением Везувия это произошло почти в одночасье. Обычно же процесс это медленный, и потому – щадя-щий для глаз человеческих. Однако эзотерический взгляд Фёдора Тютчева «вскрывает» невидимость постепенных метаморфоз, прорастает в глубину, связывает бездну верха и низа. Очевидно, что будущая жизнь живёт за счёт прошедшей, иногда, в букваль-ном смысле, как стервятник, питаясь прахом предшественников. И не только не чувствует в этом вины, но и вообще «знать не знает о былом». Обидно, досадно, но таков космический закон, пронизывающий Вселенную. Зато природа «играет в демокра-тию»: она «равно приветствует» пьяницу и трезвенника, культу-ролога и матершинника, гения и злодея. Ничего личного! Да два-три дуба выросли на них, Раскинувшись и широко и смело. Красуются, шумят, – и нет им дела, Чей прах, чью память роют корни их.
Александр Карпенко 159
Как лаконично и, вместе с тем, образно роняет русский клас-сик свои мысли. Ничего лишнего! Каждое слово на месте, каждое слово – говорит, а не просто заполняет стихотворное простран-ство. Вместе с тем, явственно ощущается перекличка с пушкин-ским стихотворением «Брожу ли я вдоль улиц шумных»: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть,/ И равно-душная природа / Красою вечною сиять». Пушкин принимает человеческий жребий с улыбкой. Тютчев же, на мой взгляд, в душе ропщет на такой расклад бытия, но, стоически готов вынес-ти его, как «подвиг бесполезный». Впрочем, теперь мы уже зна-ем, что подвиг поэта не был бесполезен и задал духовную пищу грядущим векам.
ЧАСТЬ 4. ЭЗОТЕРИКА ЛЮБВИ Ф. И. Тютчев. Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня... Тяжело мне, замирают ноги... Друг мой милый, видишь ли меня? Всё темней, темнее над землею – Улетел последний отблеск дня... Вот тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, Завтра память рокового дня... Ангел мой, где б души ни витали, Ангел мой, ты видишь ли меня? 3 августа 1865 Герой разговаривает со своей возлюбленной, которая находит-ся... на небе. Я помню прекрасное чтение этого тютчевского стихотворения актрисой Малого Театра Еленой Гоголевой. Воз-можно, я бы получил от чтения великой актрисы только эсте-тическое удовольствие, если бы незадолго до этого события не потерял маму. Я всё ещё разговаривал с нею; спрашивал, придя
160 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
на кладбище, слышит ли она меня. Надо ли говорить, что это стихотворение Тютчева потрясло меня до глубины души! Честно говоря, я даже не ожидал в тот момент, что автор «Грозы в начале мая» способен на такие пронзительные ноты. Возможно, уже тогда во глубине души мне захотелось написать на эти стихи песню. Ибо какая, в сущности, разница, твои, собственные это стихи или чужие, если они конгениальны твоим переживаниям? Стихотворение может иметь какие угодно достоинства, но путь его к сердцу читателя окажется непростым, если нам не помогут в этом сходные переживания. Если ты не ощущал в жизни нечто подобное, чувства и мысли автора могут показаться тебе пустяковыми, не стоящими внимания. И, наоборот, родст-венность переживаний автора и читателя сообщает иногда стихо-творению более глубокий смысл, даже в сравнении с другими произведениями того же автора. Часто приходится слышать о том, что Тютчев был архаичен даже для 19 века, что его лексика, благодаря долгой жизни за границей, словно бы «законсерви-ровалась» на долгие годы и не получила развития. Я уверен, что это не так. Многие современные поэты используют элементы архаической лексики как стилистический приём. Наверное, отно-шение Фёдора Ивановича к устаревшей лексике было таким же или почти таким же. Во всяком случае, в стихотворении «Вот бреду я вдоль большой дороги…», как и во многих других сти-хотворениях прославленного классика, нет даже намёка на арха-измы. Есть серьёзные произведения, в которых присутствие та-ких слов просто немыслимо: они способны испортить решитель-но всё! В 19-м веке поэты ещё не имели дурной привычки «пря-таться» за своим лирическим героем. Поэтому, когда Тютчев го-ворит «я», мы абсолютно уверены в стопроцентной исповедаль-ности такого стихотворения. Читая Тютчева, приходишь к осознанию: интимная лирика не приемлет архаичной лексики. О переживаниях такого внутреннего накала можно рассказать толь-ко живым разговорным языком. Стихотворение очень современно. Оно созвучно тем людям, кто потерял своих родных и близких, а кто из нас их не терял? При этом стихотворение абсолютно соответствует нашему ны-нешнему менталитету. «Психические остатки» творчества гения произрастают на новой почве, подобно дубам Тютчева, вырос-ших прямо на могильных курганах предков. Это и есть наше многотрудное и зыбкое бессмертие. Пример Тютчева подтвер-
Александр Карпенко 161
ждает, что и с «обочины» литературы можно ворваться в её сердце! От всей души сочувствуя поэту, мы, там не менее, пони-маем, что он вряд ли взял бы трагическую ноту такой высоты, не случись в его жизни горькой утраты. Переход земной любви в свою небесную ипостась свершился насильственным для души способом. Не случайно в названии стихотворения фигурирует «годовщина». Именно столько, согласно христианской традиции, души ушедших людей ещё пребывают «в пределах досягаемос-ти» для своих родных и близких. На это и уповает в своём знаменитом стихотворении Фёдор Иванович Тютчев. Тютчев и Фет жили и творили долго. Они словно бы проде-монстрировали любителям поэзии, что жизнь стихотворца в Рос-сии не обязана обрываться трагически, как в случае с Пушкиным и Лермонтовым. Хотя злые языки поговаривают, что перед самой смертью Афанасий Фет якобы покушался на самоубийство. Как бы там ни было, и Тютчев, и Фет не избежали на своём пути роковых жизненных потерь. И, поскольку мы здесь говорим об эзотерике, позволю себе высказать странную, но напрашиваю-щуюся мысль: Тютчев и Фет прожили относительно долгую жизнь потому, что «за них» погибли их любимые женщины. Эти две женщины, Елена Денисьева и Мария Лазич, словно бы при-несли себя в жертву року, убивающему в раннем возрасте рус-ских поэтов. Зато, благодаря долгой жизни, Тютчев и Фет смогли вывести русскую поэзию 19-го века на новые рубежи. Дальше – даже по сравнению с Пушкиным и Лермонтовым. Дальше – не означает «лучше». Просто им покорились ноты, прежде для русской поэзии недосягаемые. И в этом – непреходящее значение этих подвижников слова для нашей культуры.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 162-173.
Петр КАЗАРНОВСКИЙ Санкт-Петербург, Россия
ВРЕМЯ КАРТИНЫ И ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА (Евгений Михнов-Войтенко и Леонид Аронзон)
Давно замечено, что «никогда русская поэзия не вступала с живописью в такую тесную связь, как в XX веке»1. Думается, что это наблюдение, сделанное по поводу первой половины XX века, вполне может быть отнесено и к его второй половине. Так, в на-чале 50-х годов в Ленинграде следует отметить союз худо-жников Арефьева, Васми, Шварца и поэта Роальда Мандель-штама, именуемый самими участниками как «Болтайка» (что, конечно, подчеркивает неофициальный характер этого объеди-нения). Это, пожалуй, самый известный пример; многие связи еще ждут своих исследований. В конце 1966 года между живописцем Е. Михновым-Войтенко и поэтом Л. Аронзоном завязалась крепкая дружба, вылившаяся в активное творческое взаимодействие. К этому моменту каждый из творцов уже состоялся: Михнов всё дальше уходит от фигура-тивности, интуитивно открыв «лиризм» абстрактного экспрес-сионизма (хотя сам художник не любил этого ярлыка, так как считал любое «проявление» конкретным); Аронзон уже вышел на свои основные темы, разрабатывает основные черты своей по-этики. Три года дружбы не остались безрезультатными ни для поэта, который, в частности, объединил абстрактное изображение и слово, создав цикл-книгу «AVE» (151–168)2 в смешанной тех-нике, во многом следующей находкам Михнова; ни для художни-ка, который всё шире открывал для живописи другие, самые уда-ленные от нее, искусства. Именно к проблеме параллельности, а порой и смежности по-исков Аронзона и Михнова обращены данные заметки. Если художник уходил от однозначной телесности, расплав-ляя фигуру в объемах, в цветовых пересечениях – вплоть до не-узнаваемости, то поэт телесность эту своеобразно нагнетал, одна-
1 Альфонсов В.Н. Слова и краски. – М.–Л.: Советский писатель, 1966. С. 231 2 Здесь и далее все приводимые цитаты и упоминания стихотворений Л. Аронзона отсылают к порядковому номеру текста в издании: Аронзон Л. Собрание произведений: В 2 т. Т. 1. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006.
Петр Казарновский 163
ко и здесь мы не найдем статуарности. Можно сказать, что оба творца художественно постигали текучесть. Этот компонент их миров позволяет соотносить живопись с музыкой, со звучанием, а поэзию – с пространством. Как показывают некоторые исследо-ватели, это связано с восточной философией, буддийской эстети-кой, в частности вэньжень хуа, согласно которой творчество – «это своего рода религиозная игра, тайна особой благодати. Ху-дожника <…> охватывает внезапное осознание безграничной ав-тономии, и он пишет так, как поет птица, веет ветер, как бьет ключом живая вода. Его мысли ускользают из-под контроля его воли. Его кисть руководствуется не рассуждением, а интуицией, сознанием абсолютно свободным, которое совпадает с объектом и в то же время его производит»3. Художник Михаил Кулаков также отмечал: «Писать один и тот же объект в течение продол-жительного времени – медитация, дневник внутреннего созерца-ния через внешний, тебе приятный предмет или ситуацию, пере-ходя в созерцание внутренней пустоты – Пуньяты, затем вновь возвращаясь через реализацию на холсте»4. Виктор Кривулин, в свою очередь, склонен был видеть в эстетизме Аронзона причуд-ливое соединение «авангардистских концепций и философии даосизма»5. Пустота, к которой «просачивается» живописец Мих-нов, передается Аронзоном на словесном уровне, – не только «исток и устье» (141) рождения речи, цвета, образа, изображения, но и океан свободной бесформенности, дооформленности. Как в работах Михнова, так и в стихах Аронзона в процессе открывания миров подспудно совершается развоплощение созда-ния, созданного так, что узнаваемые черты мира предстают из-рядно трансформированными. Например, увидение Аронзоном чужого лица в отражении, углубление объекта за счет парадок-сального повтора («на небе молодые небеса», 67) или метоними-ческого (тавтологического) удвоения («мои глаза лица», 68; «же-ну целую в темя головы», 85) – эти отличительные черты его по-
3 Цит. по: Вальран В. Спонтанный танец на холсте.// Вальран В. Ленин-градский андеграунд, Живопись, фотография, рок-музыка. – СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова. 2003. С. 40. 4 Кулаков М. <О Михнове>. // Евгений Михнов-Войтенко. – СПб.: Серия «Авангард на Неве», 2002. С. 35 5 Кривулин В. Евгений Михнов, или Художник в поисках Белого Квадрата. // Кривулин В. Охота на Мамонта. – СПб.: Б.Л.И.Ц. 1998. С. 169
164 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
этического мира создают ощущение определенного ландшафта, причем не просто «пространства души» – аронзоновского поэто-логического образа из стихотворения «Послание в лечебницу» (6, ср. также с 85). «Пространство души» – то же, что «внутренний пейзаж», принцип которого со времен романтизма – осмысление душевной жизни во внешних, физических образах и формах. Аронзон, использовав этот романтический концепт, возвратил ему классицистическую идейную основу. Мир души уравнен в правах с миром внешним, так как их приметы и ценности совпа-дают (в одном стихотворении прямо заявлено): «Мой мир, такой же, что и ваш… Но только мир души», 125). Художник открывает то, что было создано, тем самым вступая с Богом не в соревнова-ние, не в спор, а в диалог:
Всё, что мы трудом творим, было создано до нас, но густой незнанья дым это всё скрывал от глаз (78).
Иначе у Михнова: в 1968 году он записывает: «Обыкновенно художники стремятся интерпретировать мир, а я – создать»6. Крайний романтик, Михнов здесь исповедует убеждение, что до творческого акта не существует ничего. Михнов – из тех худож-ников, которые не просто высветляют, открывают новые миры, но научают зрение привыкнуть к развитию или – что почти то же – звучанию картины. Такой синестезийный подход действитель-но не предполагает традиционной сюжетности картин, отвергает литературо-центричный характер живописи. Перед зрителем мир картины Михнова каждый раз творится почти с начала, чуть ли не с белого листа. Сочетание линий, цветов, контуров, иерогли-фов создает именно звучание композиции… Но творимый – со-творяемый мир не знает последнего дня своего творения. Это мир неопределенных форм, мир до творения. Та «грань вещественно-го проявления», на которой «застыли конкретные формы»,7 –
6 Хозикова Л. Евгений Михнов-Войтенко: Жизнь вопреки правилам: Дневники. Записки. Материалы из личного архива. – СПб.: ООО Типо-графия «Береста», 2008. С. 95. 7 Михнов и о Михнове. Записные книжки и беседы Евгения Михнова-Войтенко. Художник глазами современников / Сост. и подг. текста Е. Сорокиной. СПб.: Изд-во имени Н.И. Новикова, 2006. С. 104.
Петр Казарновский 165
только преддверие воплощенности. Эту стадию мира по-своему интуитивно и постигает Михнов в своей живописи. Вот пример рефлексий по поводу созданного: «Мои работы <…> свидетель-ствуют собой грань между Бытием и Небытием <…>. Они возни-кают из небытия, чтобы своим фактом возникновения рассказать о сокрытом во мне Боге – бесконечно многоликом и нескончаемо потенциальном»8. Известный знаток и ценитель живописи Михнова В. Н. Аль-фонсов неоднократно сближал миры и методы их подачи у поэта Пастернака и художника Михнова: оба даны разом, спонтанно, словно нечаянно и целиком, как бы в обход привычной избира-тельной логики. Возникновение образа носит не только случай-ный характер; как известно, Пастернак заменял одни образы дру-гими, основываясь на принципе подобий, соответствий. Это не мир относительности – это мир свободной заменяемости, потому что, возвращенные в лоно духовности – или увиденные в особом ракурсе, предметы, реалии словно тянутся к первооснове:
Увы, живу. Мертвецки мертв. Слова заполнились молчаньем. Природы дарственный ковер в рулон скатал я изначальный.
Пред всеми, что ни есть, ночами лежу, смотря на них в упор. Глен Гульд — судьбы моей тапер играет с нотными значками (128).
Нечто подобное заметно и в картинах Михнова: по мере уда-ления – приближения у нас могут возникать разные представле-ния о той или иной детали его конкретного полотна. И сплетен-ность, хаотичность расположения образов, их густота или, наобо-рот, разреженность, прозрачность – всё это не позволяет прибли-зиться к какой-либо однозначности при восприятии этой живопи-си. Многие посетители первой персональной выставки Михнова сетовали на то, что времени на переживания его картин недоста-точно, что краткий срок, проводимый в выставочном зале, не дает
8 Там же. С. 22.
166 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
вжиться в работы9. Кстати, это ещё один – пусть и несколько на-ивный – намек на то, что не только восприятие этой живописи, но и сама она существует – или просит быть во времени. Высоко ценимый Михновым Пауль Клее своим отказом от привычной фигуративности и привычного пространства поме-стил свои «фантазии» во время их восприятия (почти уравненное с временем их создания). По устному сообщению В. Н. Альфон-сова, Михнов штудировал изданную в самиздате монографию о Клее и, вполне возможно, был знаком с высказываниями немец-кого художника, у которого находим: «Когда-нибудь я должен быть способен предаться свободному фантазированию на цвет-ной клавиатуре из ряда акварельных красок»10 или «Искусство не изображает видимое, а делает видимым»11; кстати сказать, неко-торые работы Клее названы как «Созвучия» разноцветных фигур. Можно предположить, что не считавший себя, как уже отмеча-лось, абстракционистом Михнов находил в мыслях Клее схожее в понимании метода художника: «Абстрактное? Быть абстрактным для художника – не то же самое, что абстрагировать путем сопо-ставления с натурой, с объективным, но, независимо от этих воз-можных путей сопоставления, основываться на экстракте чисто картинных отношений…»12 (26). Но, строгий в отношении других мастеров, Михнов, отдавая должное эмоциональности Клее («Живопись всегда была подра-жательной. Клее ужасно литературен, но обаятелен. Он не мог лишить свой разум своего разума»13), упрекал его за излишнюю литературность – кстати, напрасно, ведь сам Клее писал: «в ис-кусстве <…> слишком много биографии. Это вина писателей. <…> я бы желал, чтобы о выразительности, хоть чуть-чуть, суди-ли бы по самим работам» (16). Получается, что Михнов словно миновал, пропустил противоположные по смыслу высказывания экспрессиониста. Вероятнее всего, такая резкая оценка Михно-вым своего предшественника происходит из-за неприятия теоре-тизма, чем объясняется и категоричное отталкивание Михнова от
9 См.: Михнов и о Михнове. Из отзывов о выставке 1978 года (Ленин-град), с. 101–108; Из отзывов о выставке 1982 года (Москва), с. 109–118. 10 Клее П. Дневники. Цит. по: Парч С. Пауль Клее. Taschen/Арт Родник, 2004. С. 18. 11 Клее П. Творческая исповедь. Там же. С. 54. 12 Там же. С. 26. 13 Михнов и о Михнове. С. 43
Петр Казарновский 167
живописи Кандинского – по его мнению, предельно аналитично-го, «головного». Со временем живопись Михнова крепнет в своей неизобрази-тельности; художник всё меньше рассказывает, а сам акт творче-ства – иногда длящийся считанные минуты, которые в своем свершении выливаются во время жизни, – переводит предельную эмоциональность в неузнаваемые, только обещающие что-то зри-тельные образы. Так Михнов создает живописный аналог самому абстрактному из искусств – музыке, которая существует во вре-мени своего звучания, исполнения. И так искусство, лежащее в пространственной перспективе, обретает качества континуума, длительности. Ряд картин, ориентированных на музыку, точнее всего указывает на звучание, т. е. именно на временное, непре-рывно длящееся. Близкий друг Аронзона и Михнова поэт А. Альтшулер гово-рил в записанных беседах с художником, что видит в его карти-нах пейзажи, но «это пейзажи отношений тех, кто смотрит, их самочувствий, их ощущений. Это зеркала, отражающие внутрен-ний мир в них смотрящего, отражающие подлинный человече-ский образ»14. Пейзаж Михнова словно течет во времени, он глу-боко музыкален. Художник говорит: «Каждое творение творит себя постоянно – статики нет никакой. Статика – это удивление перед творением»15. Творящий художник, по выражению Пастер-нака, – губка, впитавшая в себя мир. Михнов через себя дает иг-рать стихиям. Но и сотворенное художником продолжает тво-риться, впитывая в себя цвета, энергии. Вот перечень нескольких названий картин художника: «Пабло Казальсу» (1974), «Литур-гия» (1975), «Фламенко» (1974), «Посвящение Пабло Казальсу» (1979), «Симфония» (1979), «Далекие тональности» (1981), гра-фическая серия «Унисоны»… Темой этих картин выбрана музы-ка. А вот и высказывания Михнова по поводу музыки: «Слушая Генделя, мне кажется вот этакое: музыка передаёт осязаемо-зрительные концепции, живопись моя наоборот – осяза-тельно-музыкальное, т. е. слушая – смотрю, смотря – слушаю»16. «Как он <Пабло Казальс. – ПК.> владеет континуумом, как он держит его в руках!.. Кажется, что звук уже угас, и вдруг выра-стает нечто новое – звук рождает звук»17.
14 Машинопись. 15 Там же. С. 56. 16 Там же. С. 22.
168 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
«Вся прелесть Баха – в том, что он ничего не навязывает. Он создает музыку, и в ней ничего не видишь, кроме музыки. Си-дишь у воды и видишь воду…». «<Пабло Казальс> заставляет жить, наполняет энергией, жиз-нью, желанием действовать. Он активен – созерцая. Активность рождает огромное созерцание»18. Аналогичных мыслей немало в записях Михнова. Все они – свидетельства синкретического восприятия любого вида искусст-ва, и прежде всего музыки. Имена Баха, Казальса, Гульда возни-кают и в текстах Аронзона, причем нередко в непосредственной близости от имени Михнова. Если картина Михнова музыкальна, длится во времени (сам он называл свои работы «спрессованной музыкой»19), то пейзаж Аронзона пластичен, пространствен: сравним образы «парк дли-ной в беседу о русской поэзии» (75, Другие редакции и вариан-ты), «тело жены от весны до весны» (неопубл). По Михнову, природа вся наполнена звуками; по Аронзону, она вся в позах, позициях, замерших, плывущих запечатленными, но хранящими внутреннее сосредоточенное движение. Выбор определенной точки зрения по отношению к миру – способ преломить про-странство, сообщить пространственность самому тексту. В част-ности, свет, о котором часто пишет поэт, – один из измерителей этого потенциального пространства.
Вода течет, а кирха неподвижна, но и вода стоит, а не течет. На грудь мою садится самолет, но свет такой, что ничего не видно (126)
Если Михнову свойственна протяженность (континуум), то Аронзон стремится к остановке времени. Так сад или собор или названный период времени – будь то апрель или август – не пе-рейдет в другое качество или состояние. А занятие, приписанное персонажам, продолжает ими совершаться, вписавшись в окру-жающий ландшафт и вневременно продлевая его. Обратим вни-мание на это единство персонажа и ландшафта, устанавливаю-
17 Там же. С. 31. 18 Там же. С. 33. 19 Там же. С. 74.
Петр Казарновский 169
щееся посредством творческого, почти религиозного акта, в од-ном из наиболее известных и уже упоминавшемся выше стихо-творении Аронзона – в «Послании в лечебницу»: В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, как при свече, и доживи до лета, чтобы сплетать венки, которые унесет ручей. Вот он петляет вдоль мелколесья, рисуя имя мое на песке, словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке. <…> ты идешь вдоль воды и роняешь цветы, смотришь радужных рыб, и срывается с нотных листов от руки мной набросанный дождь, ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь (6). Здесь едва заметно совершается интериоризация – плавный переход всего внешнего во внутреннее пространство. Это неотъ-емлемое движение в поэтике Аронзона, видимо, было почувство-вано Михновым: поэт 31 марта 1968 года фиксирует в своем дневнике: «Евг. Григ. <Михнов> сказал, что я нынешний Фет. Я взял Фета читать – и, правда, есть подобие, так что даже удиви-тельно» (примечание к 74). Именно А. Фет в XIX веке макси-мально приблизил элементы окружающего мира к эмоции лири-ческого субъекта, охваченного восторгом – субъективной причи-ной на первый взгляд кажущейся хаотичности в расположении поэтических образов20. Во внутритекстовом – «сюжетном» – вре-мени приведенного стихотворения происходит такое парадок-сальное совмещение настоящего действия («рисуешь») и обра-щенного в будущее движения («после идешь»), что грамматиче-ские времена, как и жесты, накладываясь друг на друга, отменяют свойственную им категориальность, протяженность. Это под-тверждается и фактом самиздатской публикации: в альманахе «Fioretti» это стихотворение было напечатано под заглавием «По-слание в сумасшедший дом» (примечание к 6). Таким образом, в метафизическом плане его адресатом выступает душа, не знаю-щая о времени и путающаяся в пространстве. Если в «Послании в лечебницу» особые качества изобрази-тельности существуют еще в плоскости стиха, то в конце 1960-х годов Аронзон обратился к синтезу словесного и изобразительно-го искусств в книге «AVE», где он соединил разные техники ра- 20 См., напр.: Гаспаров М. Фет безглагольный. // Гаспаров М.Л. Избран-ные статьи. М.: Новое литературное обозрение. 1995. С. 139 – 149.
170 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
боты с гуашью, тушью – размывку, графику, точечность и моно-типии. Поэт и до дружбы с Михновым часто переписывал свои стихи различными почерками и сопровождал их разными полуабст-рактными изображениями (например, сонет «Лебедь» (38) обве-ден орнаментом в манере Климта или Врубеля), странными пей-зажами или шаржами. Во второй же половине 60-х удельный вес такого рода рукотворного творчества увеличивается. (Заметим, что здесь также сказалось общение с другим художником – Юри-ем Галецким; особо выразительным результатом у Аронзона сле-дует признать «Пустой сонет» (118), написанный под явным влиянием композиции Галецкого «Пусто»21.) Но наиболее ярким проявлением такого синтеза может быть названа именно книга «AVE». Фигуры, контуры которых обозначены границами рас-текшейся туши, вбирают в себя надписи, или за пределами изо-бразительного фона возникают дрожащие надписи. Здесь Арон-зон находит то, что потом приобретет у Михнова законченный облик: во-первых, «свечеобразность» людей (ср. запись художни-ка: «люди – свечи»22); во-вторых, в некоторых работах Михнова, созданных после гибели поэта, настойчиво угадываются иници-алы «Л. А.», нередко создающие прихотливые анаграмммы. Следует также отметить, что и обращение поэта к нерегуляр-ному, свободному стиху можно интерпретировать как интуитив-ное описание многоритменности, композиций Михнова: наряду со своеобразным сведением всех своих образов и мотивов в некие текстовые универсумы Аронзон здесь полностью отходит от ло-гики, целиком отдаваясь интуитивному проникновению в новые пространства, всегда лежащие где-то в области неба и исполнен-ные света. Именно образом света – главного измерителя про-странства – завершаются верлибры «Когда наступает утро…» (113) и последний текст «Записи бесед» (174). Итак, два традиционно далекие друг от друга языки живописи и литературы в творчестве Евгения Михнова-Войтенко и Леонида
21 У Голубой Лагуны: Антология новейшей русской поэзии. Нью-тонвилл, Масс., 1983. Т. 4А. С. 279–280. Подробнее об этом сопо-ставлении см. Кукуй И. Два «Пустых сонета»: анализ стихотворений Л. Аронзона и А. Волохонского // Поэтика исканий, или Поиск поэтики. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2004. С. 281–292. 22 Михнов и о Михнове. С. 24.
Петр Казарновский 171
Аронзона содержат существенные пересечения, что должно гово-рить о своеобразной параллельности поисков двух творцов, отче-го эти искусства не только сближаются, но и совершают экспан-сию на «территорию» друг друга. В завершение приведем стихотворение Е. Михнова-Войтенко «Посвящение Л. Аронзону», написанное после гибели поэта – в 1972 году: художник, используя ключевые образы поэзии своего друга, запечатлевает динамическую неподвижность, в которой экстатически стирается всякая привычная узнаваемость, чтобы проявились Вечность и бессмертие.
Предвечный зов. И вот, пора: Явилась странная гора, Мое немое многоточье, – Где маки красные горят Как циклопические очи… У той горы я – Магомет. И смерти нет. И смерти нет! Но души, души над цветами!.. Как звезды сеющие свет, Как одуванчики, – витают… И этот свет, и этот сонм, И ночи белые, и сон, Сон просветленнее печали Хранят молчанье об ином – Об изначальном и Начале…
Где пред тобой лицо Творца, Где все земное без лица: Ни самолетов, ни стрекоз. Но на божественных цветах Переливается пыльца, И дышит воздухом наркоз.23
23 Евгений Михнов-Войтенко: Жизнь вопреки правилам. С. 619
172 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Л. Аронзон. Титульный лист Страница из книги AVE книги AVE
Евгений Михнов-Войтенко. «Посвящение Леониду Аронзону».
Темпера, 1972-1973 гг.
Поэзия: Russian Poetry Past and Present, #4-5 (2015), 174-184.
Ирина ЧАЙКОВСКАЯ Вашингтон, США
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
Рецензия на антологию «Русские поэты Америки. Первая волна эмиграции», т. 1 и 2. Составитель, автор предисловия и коммен-тариев Вадим Крейд, редактор Елена Дубровина – Idyllwild, CA: Charles Schlacks, Publisher, 2013. Революция и Гражданская война выхлестнули за пределы Рос-сии огромный пласт образованных людей – дворян, творческую интеллигенцию, военных, духовенство, чиновничество, – став-ших эмигрантами. Они обретали кров в разных городах Европы и Азии – Константинополе и Белграде, Харбине и Шанхае, Берлине и Праге, Париже и Риге. Вторая мировая война заставила многих из тех, кто обосновался в Европе или Китае, перебраться в Со-единенные Штаты. Так получилось, что для большого числа представителей первой эмиграции Америка стала «последней главой» в их «одиссеях». Если это были люди пишущие, они не бросали писать и здесь, несмотря на все сложности своей матери-альной жизни. В антологии, составленной Вадимом Крейдом, можно познакомиться с поэтическими образцами, принадлежа-щими русским поэтам первой волны, поселившимся в Америке. Рассмотрим же эту антологию. И первое, что бросается в глаза: она весьма представительна, ибо включает 61 имя (для сравнения: в сборник «Содружество», составленном Татьяной Фесенко,1 вошли 26 поэтов первой вол-ны, проживавшие в Америке). В обширном предисловии говорится, что русская поэтическая диаспора первой волны в США по численности уступала лишь французской. Фашистская оккупация Парижа вынудила некото-рых поэтов «парижской ноты» переместиться в Нью-Йорк, и два бывших «парижанина» Марк Алданов и Михаил Цетлин основа-ли в американской столице до сих пор существующий «Новый Журнал» (с 1942 г.), ставший законным преемником наиболее авторитетного парижского эмигрантского издания «Современные
1 Содружество. Из современной поэзии русского Зарубежья. – Вашинг-тон: Изд-во Виктора Камкина, 1966.
Ирина Чайковская 175
записки» (1920-1940). И уже во второй половине ХХ века «в Аме-рике вышло больше русских поэтических сборников, чем в лю-бой стране зарубежья»2. Автор антологии, Вадим Крейд, в течение 11 лет был главным редактором Нового Журнала. Американская русская диаспора, в особенности ее первая волна, богатая поэтическими дарования-ми, на протяжении многих лет оставалась в сфере его внимания. Исследователь по крупицам собрал биографические сведения о включенных в сборник авторах3. Двухтомник, им составленный, показал многообразие русской музы в Америке. Здесь, как верно замечено в предисловии, нет однотонности тем и звучаний, то есть того, что можно назвать «одной нотой», хотя бы и «парижской». Все поэты прожили непростые жизни, все были выбиты из колеи потерей родины и странничеством. Биографии некоторых потрясают. Начну с первого (поэты в антологии идут по алфавиту). Иван Акимов, сын главврача Петербургской Евгеньевской больницы сестер милосердия. После революции всю семью аре-стовали: отец погиб, брата расстреляли, подросток Иван с мате-рью бежали в Финляндию. Потом были переезд в Ригу и работа в Латвийском посольстве, а в 1939 году, когда посольство было закрыто (в связи с входом в Прибалтику Красной армии), он пе-ребрался в США, где раскрылся его талант художника- карикату-риста, автора политических шаржей. Александр Браиловский. Его детские стихи понравились Брю-сову, посвятившему ему известное стихотворение, начинающееся строчкой «Юноша гордый со взором горящим». За революцион-ную деятельность был дважды приговорен к повешению, сумел убежать из камеры смертников, жил в Швейцарии, Италии, Фран-ции, а затем разочаровался в марксизме – и в 1917 году покинул Россию, обосновавшись в США, здесь он был членом Объедине-ния русских писателей в Нью-Йорке, занимался переводами за-рубежной классики, активно сотрудничал с Новым Журналом...
2 Крейд В. Под навесом заморских небес. Предисловие к двухтомнику «Русские поэты Америки», т. 1, стр. 38. 3 В Словаре поэтов русского Зарубежья (С-П: Изд-во Русского Христи-анского гуманитарного института, 1999.) (Под редакцией Вадима Крей-да, Валентины Синкевич и Дмитрия Бобышева).
176 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Борис Волков. Участник Первой мировой войны, Георгиев-ский кавалер, затем – участник Белого движения. В 1919 ушел из России через монгольскую границу, скитался по странам Восто-ка, был в Иране и арабских странах, жил в Японии и Китае. В 1920-х гг. переехав в Калифорнию, работал грузчиком в порту Сан-Франциско, был он, по мнению В. Крейда, «самым одарен-ным поэтом» в Литературно-художественном кружке на Запад-ном берегу. Елена Грот. В разгар Первой мировой, в 1916 году, вместе с мужем, военным инспектором, прибыла в США. В Гражданскую войну сопровождала мужа, отправившегося в армию Колчака, а в 1921 году, когда Белое движение было разгромлено, вернулась в Америку. Именно ее гостиная в Сан-Франциско стала прибежи-щем Литературно-художественного кружка, возникшего в 1921 году и объединявшего таких поэтов, как Борис Волков, Ольга Ильина, Наталия Дудорова, Алексей Масаинов, в более поздние годы Глеб Струве, Иоанн Сан-Францисский (Странник), Ольга Скопиченко. Князь Николай Кудашев, внук декабриста, в ранней юности участвовал в Добровольческом движении, затем были военный лагерь в Словении, где он жил вместе с товарищами по кадетско-му корпусу, служба пограничником в Югославии, в 1941 году он стал добровольцем русского Белого корпуса, служил в армии Власова, попал в плен... В Америке, куда он эмигрировал в 1949 году, долгие годы работал на пищеперерабатывающем комбина-те... Это, конечно, не «доить коров в Аргентине» (Маяковский), но, принимая во внимание княжеское достоинство, где-то рядом. Кудашеву, уже старому и больному, посвящены трагически светлые лирические строки Ольги Анстей, поэтессы послевоен-ной волны эмиграции, первой жены поэта Ивана Елагина4. Эти биографии можно продолжать и продолжать: у всех по-этов двухтомника позади годы скитаний; мужчины, как правило, сражались против Красной армии, некоторые, такие как Сергей Войцеховский (1900 - 1984), до конца жизни остались «белогвар-дейцами», пронесли в душе отсвет тех апокалиптических дней. Из любопытных фактов.
4 Об Ольге Анстей и Иване Елагине, поэтах второй волны эмиграции, см. в книге Валентины Синкевич «Мои встречи: русская литература Америки». – Владивосток: Рубеж, 2010.
Ирина Чайковская 177
Только двое остались сегодня из участников антологии – са-мая младшая представительница поколения первой волны Ираида Легкая и Михаил Ротов. Две поэтессы, авторы сборника, умерли в Москве, это Хри-стина Кроткова (1904 - 1965), чья жизнь оборвалась во время экскурсионной поездки в российскую столицу, и Лидия Нелидо-ва-Фивейская (1894-1978), в 1956-м году вернувшаяся на родину и закончившая дни в московском Доме ветеранов сцены на шоссе Энтузиастов. Лидия Нелидова-Фивейская, жена композитора М. Фивейско-го, была балериной, встречалась со многими знаменитостями из мира музыки, о чем оставила до сих пор неопубликованные за-писки. Музыкантами были и такие поэты, как Владимир Дукель-ский (1903-1969), Александр Корона (189? - 1967), Всеволод Пас-тухов (1894-1967). Калифорнийские поэтессы Наталия Дудорова и Ольга Ильина приходились правнучками поэту Евгению Баратынскому. Ильи-на, к тому же, внучка Федора Тютчева (см. стихотворение «Буду старой старухой»), что не удивительно, если вспомнить, что под-московное Мураново – мемориальный музей обоих поэтов, чьи потомки породнились. Среди участников сборника есть и совсем необычный автор, писавший под псевдонимом Странник – это архиепископ Иоанн Сан-Францисский, в миру князь Дмитрий Шаховской (1902-1989), в своих стихах признающийся в любви к ставшей для него родной Калифорнии. Первая волна эмиграции богата большими поэтами. Достаточ-но назвать такие имена, как Марина Цветаева, Владислав Хода-севич, Георгий Иванов. Американский извод уступает в этом смысле французскому. Но «имена» есть и в двухтомнике Вадима Крейда, это Нина Бер-берова и Владимир Набоков, Амари (Михаил Цетлин) и Аргус (Михаил Айзенштадт), Давид Бурлюк, Глеб Струве, Юрий Иваск, Борис Нарциссов, Игорь Чиннов...5
5 Трех последних поэтов часто относят ко второй – послевоенной эмиграции, хотя, на самом деле, все они после революции проживали на территории буржуазных прибалтийских государств, и только после «советской оккупации» перебрались на Запад.
178 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Корифеи, оказавшись в Америке, «стране чистогана», как ка-жется, стали писать жестче, беспощаднее. Наиболее непримирим к американским реалиям был Давид Бурлюк, но и Набоков в под-борке, почерпнутой из Нового Журнала 1940-1950-х годов, весь-ма жесток и ироничен – а еще – что весьма отличает его от «европейского» – склонен к игре с ритмом и рифмой. Нина Берберова, прибыв в Америку, впервые после юноше-ского перерыва взялась за стихи, причем стихи, ни на что преж-нее не похожие – безрифменные или верлибры с нерегулярной рифмовкой, – пропитанные «горечью и злостью» («Кассандра», «Я остаюсь» ,1959, «Ни о вазе...», 1961). Мы не удались, как не удалось многое, Например, вся мировая история И, как я слышала, сама вселенная, Но как мы шуршали, носясь по ветру! «Я остаюсь» Подборка Берберовой в антологии неожиданна и свежа, она открывает в ней интересного и очень современного поэта. Ори-гинальна, насыщена редкими по звукописи, по игре со словом, рифмами и ритмом стихами подборка Игоря Чинного, названного в предисловии «возможно, лучшим русским поэтом США». О Чиннове Крейд пишет с восхищением: (он сочетал в себе) «утон-ченное эстетическое чувство, прихотливую религиозность, жи-тейский гедонизм, горечь от ума и прикрытый иронией тра-гизм».6 Если в стихах большинства поэтов сборника сквозит жалоба на жизнь, одиночество, потерю родины, то Чиннов восхваляет бытие, откликается на красоту во всех ее проявлениях – в приро-де, поэзии, музыке. Он может позволить себе закончить стихо-творение лермонтовской строкой «За все, за все тебя благодарю я», открыто противопоставляя свой «позитивный» взгляд на мир «безбожным» инвективам Лермонтова. Что ж, среди океана сте-наний поэзия Чиннова выглядит островком «чистого искусства», образчиком поэтического мастерства и вкуса.
6 Крейд В. Под навесом заморских небес. Предисловие к сборнику «Русские поэты Америки», т. 1, стр. 20.
Ирина Чайковская 179
Хороша подборка стихов Аргуса (Михаил Айзенштадт), 40 лет писавшего очень смешные фельетоны для «Нового русского сло-ва», ежедневной нью-йоркской газеты, основанной в 1910 году и не так давно, увы, прекратившей свое существование. Стихи же Аргуса далеки от веселости. В их названиях часто встречаем им-ператив: «Не спрашивай...», «Замолчи...», «Не грусти...». Стихи обращены к верной и чуткой подруге, с кем поэт делит «невме-няемую тяжесть тупой, неповоротливой судьбы». Конец одного из стихотворений трагически парадоксален:« И молить, упраши-вать Бога, / Чтобы Он позабыл про нас». Не потому ли оставлен-ность Богом воспринимается как благо, что из-за выпавших на долю горестей возникает желание уйти из-под наблюдения, спря-таться даже от Всевышнего, тем более, что он «не спас», как ска-зала поэтесса, оставшаяся по ту сторону занавеса?7 Еще одно стихотворение Аргуса называется «В Петрограде»: Сон приснился: по колейке узкой Беспричинно как-то, невзначай Мчался ржавый, тряский, чисто русский, Громыхая на весь мир, трамвай. Любители поэзии сразу поймут ассоциацию, вспомнив гени-альный гумилевский «Заблудившийся трамвай» (1919), с его над-рывным призывом: «Остановите, вагоновожатый, / Остановите сейчас вагон». Страшный сон Гумилева, как мы знаем, оказался вещим. О том, что стихотворение Аргуса посвящено расстрелян-ному в 1921 году поэту, говорят и последние две строчки об Аф-рике, «где в судорогах смерти корчился изысканный жираф». В комментариях Крейд указывает, что последняя строчка – аллюзия к строке «Изысканный бродит жираф» в стихотворении Н. С. Гумилева «Жираф». Но, как видим, здесь даже не одна ал-люзия, связанная с Гумилевым, а две, и обе отражают реакцию на смерть поэта. Прекрасно представлена в сборнике поэтесса Лидия Алексеева (наст. фамилия Девель, в замужестве Иванникова, 1909-1989),
7 См. Анна Ахматова «Я пью за разоренный дом» («Последний тост», 1934). Ср. также со стихотворением поэта-эмигранта Георгия Иванова «Хорошо, что нет царя», заканчивающееся двустишием: «Что никто нам не поможет / и не надо помогать» (1930).
180 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
чей первый сборник «Лесное солнце» вышел, когда автору было уже 54 года. Будучи двоюродной племянницей Анны Ахмато-вой8, Лидия Алексеевна никогда не ссылалась на это родство; стихи ее не похожи на ахматовские. В них какая-то особая про-зрачность и напевность, благословение жизни во всем ее много-цветном спектре:
Из норки бурундук метнулся и исчез, По небу облако переползло спокойно. Нет, жизнь не только боль – она и этот лес, Она и этот блеск, и этот шорох хвойный.
Вот шишка под ногой подсохшая хрустит.
Вот рыжики во мху и капли в паутине... Нет, жизнь не только боль, не только ложь и стыд, Она – и этот день благословенно синий. Чтобы собрать эту удивительно гармоничную «антологиче-скую» подборку составитель, судя по указанным в конце тома источникам, кроме публикаций в «Новом Журнале», должен был внимательно «прочесать» четыре книги поэтессы, опубликован-ные в зарубежье.9 Большое место уделено в антологии (как и в предисловии) трем поэтам – Владимиру Ильяшенко, Георгию Голохвастову и Дмитрию Магуле. Все трое попали в Америку еще до революции, совместно с поэтессой Е. Христиани выпустили в 1924 году пер-вый сборник русско-американских поэтов «Из Америки». В даль-нейшем ими же был создан «Кружок русских поэтов в Нью-Йорке» (1939), к десятилетию которого вышел сборник «Четыр-надцать» – по числу участников. Соглашусь с Крейдом в его характеристике творчества этих трех «старейшин» нью-йоркского русского Парнаса: «сторонники строгой формы, приверженцы традиций», не соблазнившиеся мо-дернизмом.
8 Об Алексеевой см. в кн. Валентины Синкевич «Русская литература Америки: мои встречи», а также статью того же автора «Племянница Анны Ахматовой» в журнале «Звезда», 2001, № 9. 9 Посмертный сб. стихов Лидии Алексеевой «Горькое счастье» был опубликован в Москве изд-м Водолей Publishers в 2007-м г.
Ирина Чайковская 181
Из трех поэтов наиболее значительным представляется Геор-гий Голохвастов. Стремлением докопаться до метафизических пружин бытия, архаически приподнятой лексикой напоминает он Баратынского. Оба поэта отринули «железный век» перед ликом Природы, перед тайной Вселенной. Читаешь голохвастовскую «Первобытность» – и даже размер этого стихотворения перекли-кается с «Последним поэтом» Баратынского. Но есть и различие. Поэт «сумерек», Евгений Баратынский горевал, прозревая насту-пление «железного века», но он не утрачивал родины и не сми-рялся с этой потерей. Выпускник Пажеского корпуса, бывший гвардеец, Георгий Голохвастов ощущает себя «Иваном, не пом-нящим родства»:
Он родины лишен. Ее не предал он, И не свершал по ней в душе последней тризны, Но пережил ее; любовь прошла, как сон, В нем сердце не дрожит при имени отчизны. С энтузиазмом пишет Вадим Крейд о философско-эзотери-ческой поэме Голохвастова «Гибель Атлантиды», называя ее «подлинно выдающейся» (в 1938 году она была издана автором тиражом 300 экземпляров)10. Не прочитав всей поэмы, судить о ней трудно, отрывки, найденные мною в интернете, – говорят о блестящем владении формой, причем стихотворный размер по-эмы не умещается в рамках традиционной силлаботоники. В Грозе и буре возникла Гора, Качнуло землю паденье болида; Прияла гостя тогда Атлантида, Посланцу неба родная сестра. «Гибель Атлантиды» В предисловии составитель антологии Вадим Крейд чрезвы-чайно подробно пишет о том, как формировалась среда русских поэтов на Восточном и Западном берегу, перечисляет все литера-турные группы, их участников, сборники ими изданные; отмечает он и периодические издания, появившиеся на американской зем-
10 Не так давно поэму переиздали. См. Голохвастов Г. Гибель Атланти-ды. Стихотворения. Поэма. М.: Изд-во Водолей, 2008.
182 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
ле. Для предисловия к сборнику стихов все это, возможно, лиш-нее, но в качестве путеводителя по русской американской поэзии дает исчерпывающий и достоверный материал. Снабжен двух-томник и краткими биографическими справками, добытыми под-час у последних оставшихся в живых родственников. Он также включает указания из каких книг, журналов или даже рукописей, как в случае с очень мне понравившимися стихами «харбинки» Марии Визи,11 почерпнуто стихотворение, что, увы, редко встре-чаешь в современных изданиях подобного рода. Есть и коммен-тарий к отдельным местам стихотворений, в основном к встре-чающимся там именам и названиям. Комментарий хотелось бы расширить, что, полагаю, будет сделано при переизданиях анто-логии. Поясню, что имею в виду, двумя примерами. В прекрасном стихотворении «Год 1937-й» уже упомянутой Марии Визи, чита-ем о душной шанхайской ночи, о прогулке двух влюбленных над рекой, сменившейся внезапным воздушным налетом:
А потом посыпались бомбы, люди прятались в катакомбы, напоилась кровью земля...
И нельзя мне простить сегодня, что вошла без тебя на сходни отходившего корабля.
Читатель может не понять, о чем здесь идет речь, если не знает о Японо-китайской войне 1937-1945 гг. В 1937 году случилось самое кровопролитное столкновение этой войны – битва при Шанхае и реке Сучжоухе. Мне кажется, этот комментарий к сти-хотворению необходим. Или такое. У Александры Васильковской есть стихотворение с названием «Остовки». В содержании оно ошибочно названо «Островки», что не удивительно: смысл слова «остовки» нужда-ется в пояснении. Произошло оно от «остарбайтера» – термин
11 Подборка интересного поэта Николая Воробьева, чем-то мне на-помнившего поэта-воина Ивана Савина, cоставлена Крейдом по неопуб-ликованному машинописному сборнику, предоставленному сыном поэ-та в 1999 году.
Ирина Чайковская 183
Геринга, назвавшего так «принудительных работников с Восто-ка», живших в особых охраняемых бараках и носивших нашивку со знаком OST. Васильковская посвятила свое стихотворение женщинам-остовкам, увезенным в основном с Украины: Колокольные звоны не плакали, Только дождь отшумел над бараками О бездомных, как листья развеянных, Об умерших, по свету рассеянных...
«Остовки» Современным читателям неплохо бы пояснить, что Герман и Доротея, упомянутые Евгением Раичем, – персонажи поэмы-идиллии Гете. «Подушка цвета Монтраше» в стихотворении Все-волода Пастухова имеет зеленовато-бледные или зеленовато-желтые тона, как и названный сорт французского вина, «гаолян» у Марии Визи – это злак, возделываемый в Китае, Шаста в стихах Странника – вулкан в Калифорнии, а «магарани» у Юстины Крузенштерн-Петерец в переводе с санскрита означает «жена магараджи». Есть у меня претензии и к полиграфии сборника. Но все это в сущности мелочи в сравнении с работой, которая проделана. Хочу напомнить, что выходившие до сих пор поэти-ческие сборники, такие как «На Западе» (1953) Юрия Иваска, че-тырехтомник двух первых волн эмиграции (1994-1997) Евгения Витковского, включают поэтов всего русского Зарубежья. Двухтомник Вадима Крейда – первая попытка собрать все по-этическое богатство, созданное русской музой в Америке. И как я понимаю, вслед за стихами первой эмиграции, должны после-довать сборники второй и третьей волны. Работа проделана весьма трудоемкая: многие книги, из кото-рых взяты стихи, давно уже стали библиографической редко-стью: авторы издавали себя сами, за свой счет, крошечными ти-ражами, в дешевых типографиях, принадлежащих таким издате-лям-энтузиастам, как вашингтонский Виктор Камкин. Некоторые книги были изданы в Европе, в Париже или Берлине. Их тоже приходилось разыскивать. Чтобы составить антологию, нужно было перетряхнуть подшивки Нового Журнала, поэтических еже-годников «Перекрестки» и «Встречи», выпуски коллективных сборников...
184 Поэзия: Russian Poetry Past and Present
Поэтесса из Вильно, прошедшая свою дорогу изгнания и ставшая в итоге нью-йоркской жительницей и членом «Кружка русских поэтов в Нью-Йорке», Зинаида Троцкая писала: И расставшись с последней главою, Эпилог разбирая с трудом, Мы увидим не Рим, не Савойю, Не Нью-Йорк, а отеческий дом. Под этими строчками могли бы подписаться многие ее собра-тья по ремеслу, чьи фамилии значатся под одной с ней обложкой. По воле судьбы «последняя глава» жизни этих поэтов пришлась на Америку, но писали они на русском языке и для русских чита-телей и по-настоящему эту антологию следовало бы переиздать в России. Богатства, которые она содержит, того стоят.
Виталий Амурский 185
Виталий Амурский
Профессиональный журналист, литератор, поэт. Родился в Моск-ве в 1944 году. В печати начал выступать в середине 60-х годов. С 1973 года живет о Франции. Более двадцати пяти лет работал в русской редакции Международного французского радио (RFI). Автор многочисленных публикаций в русской зарубежной (а со времени «перестройки» и российской) печати, таких как: «Кон-тинент», «Вестник РХД», «Новый журнал», «Москва», «Звезда», «Вопросы литературы», «Крещатик» и др. Участник нескольких антологий и сборников: «Pаris, Пари», «Одюлев», «Слова», «Гла-голъ», «Побережье», «Нам не дано предугадать...», «Связь вре-мён», «Январский дождь», «Тени Европы», «Голое небо», «Про-щание с Вавилоном», «Тарусские страницы», «45: параллельная реальность» и др. Автор 10 книг, включая сборники стихов: «Зем-ными путями» (2010), «Осень скифа» (2011) и «Слушая ветер» (2014). Все три книги вышли в серии «Русское Зарубежье» санкт-петербургского издательства «Алетейя». Книга прозы – «Тень маятника и другие тени. Свидетельства к истории русской мысли конца ХХ – начала ХХI века» (СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011).
186 Леонид Аронзон
Леонид Аронзон (1939-1970) (Фотография Бориса Понизовского)
Поэт, писатель, сценарист, художник. Родился в Ленинграде. При жизни не печатался. Погиб при невыясненных обстоятельствах под Ташкентом. Официальная версия – самоубийство. Окончил Ленинградский педагогический институт. Преподавал в вечерней школе, для заработка писал сценарии научно-популярных филь-мов. В начале 1960-х общался с И. Бродским, в 1965 сблизился с Вл. Эрлем и другими поэтами Малой Садовой. Произведения Аронзона опубликованы в двухтомном собрании сочинений (Со-брание произведений. Изд. Ивана Лимбаха. 2004) и ранее в двух сборниках в Израиле и России. Также опубликованы три книги переводов на английский и на немецкий языки, книга стихов для детей (Москва: ОГИ. 2012). Издан сборник статей Wiener Slawistischer Almanach (Mюнхен, № 62, 2008), посвящённый творчеству Аронзона. В периодике опубликованы подборки сти-хов на русском, английском, немецком, польском, сербском и др. языках. По сценариям Аронзона выпущены четыре научно-доку-ментальных фильма (отмечены дипломами). В некоторых изда-ниях имеются копии живописных работ и рисунков. Творчеству Аронзона посвящены три художественно-документальных филь-ма. В центре поэзии Аронзона – мотив Рая, при этом его лирика, в особенности последних лет, глубоко трагична, в ней все на-стойчивее появляются темы смерти и пустоты.
Дмитрий Бобышев 187
Дмитрий Бобышев
Поэт, переводчик, эссеист, профессор Иллинойского университета в г. Урбана-Шампейн, США. Родился в Мариуполе, с детства жил в Ленинграде. В 1959 г. окончил Ленинградский технологический ин-ститут, 10 лет работал инженером по химическому оборудованию, затем редактором на телевидении. Писал стихи с середины 1950-х, публиковался в самиздате (в том числе в журнале Александра Гинз-бурга «Синтаксис»). На Западе с 1979 года. Дмитрий Бобышев автор шести сборников поэзии: «Зияния», «Звери св. Антония» (совместно с Михаилом Шемякиным), «Полнота всего», «Русские терцины и другие стихотворения», «Ангелы и Силы», «Жар–Куст», «Знакомст-ва слов», «Ода воздухоплаванию». Один из авторов-составителей «Словаря поэтов русского зарубежья» (Санкт–Петербург, 1999). В 1979 году в Париже вышла первая книга стихов Бобышева – «Зия-ния». В том же году Дмитрий Бобышев выехал в США, где живёт и сейчас – в городе Урбана-Шампэйн, штат Иллинойс. Он является также автором ряда поэтических переводов. В 2014 году в американ-ском издательстве вышли три тома мемуарной прозы «Человеко-текст». Печатается во многих эмигрантских и российских журналах. В начале 1960-х годов вместе с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом, Евгением Рейном Бобышев входил в ближайший круг Анны Ахматовой.
188 Леонид Ганский (Леонид Иосифович Гатинский
Леонид Ганский (Леонид Иосифович Гатинский)
(фотография из архива Мари Стравинской)
Поэт, прозаик. Печатался под псевдонимом Леонид Ганский, настоящая фамилия Гатинский. Родился в 1905 году в Лодзи. Умер в 1970 году в Париже. Учился в киевской классической гимназии, затем жил и учился в Ленинграде. В 1926 эмигрировал в Париж. В 1932 год женился на Татьяне Мандельштам, сестре поэта Юрия Мандельштама. Был членом Союза молодых поэтов и писателей (с 1930), членом правления Объединения поэтов и писателей (с 1933). Выступал на вечерах этих организаций с чтением своих произведений, участвовал в диспутах. До войны печатался в журналах «Современные записки», «Числа», «Встре-чи», газете «Возрождение». После войны выпустил в Париже сборники «На весу» (1962) и «Слова» (1965). Похоронен рядом с женой, поэтессой Татьяной Мандельштам-Гатинской, на кладби-ще Пер-Лашез в Париже.
Елена Дубровина 189
Елена Дубровина
Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родилась в Ленинграде. Уехала из России в конце семидесятых годов. Живет в пригороде Филадельфии, США. Является автором сборников стихов «Пре-людии к дождю» и «За чертой невозвращения», на английском языке романа «In Search of Van Dyck» и сборников рассказов «Portrait of a Wandering Soul», и «The Dying Glory». Составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917-1975. A Bilingual Anthology» Ее стихи и литературные эссе печатались в различных русскoязычных периодических изданиях, таких как «Новый Журнал», «Континент», «Грани», «Встречи», «Новое русское слово», «Литературная газета» и др. В течение десяти лет была в редакционной коллегии альманаха «Встречи». Является главным редактором американских журналов «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present». Последние годы пишет по-английски и публикуется в американской периодике. Ee стихи вошли в антологию англий-ской поэзии «Liquid Gold». Рассказ «Solitude» был номинирован журналом «Cantaraville» на лучший рассказ в интернете. В 2013 году Всемирным Союзом Писателей ей была присуждена нацио-нальная литературная премия им. В. Шекспира за высокое мастерство переводов.
190 Петр Казарновский
Петр Казарновский
Поэт, литературный критик, литературовед. Родился в Ленин-граде, окончил филологический факультет Петербургского педа-гогического университета (диплом по творчеству Л. Аронзона, 1992; научный руководитель В. Н. Альфонсов). Стихи начал пи-сать еще в школе, но публиковаться стал уже в 2000-е: печатался в ряде антологий, альманахов, журналов. Выпустил две небольшие книги стихотворений (в Мадриде, 2012, и СПб, 2014). Статьи пе-чатались в Новом Литературном Обозрении, сборниках по итогам конференций, в которых принимал участие. Последние годы зани-мается творчеством представителей «Второй культуры» (сов-местно с В. Эрлем и И. Кукуем участвовал в подготовке издания Собрания Произведений Л. Аронзона, готовил к публикации сочи-нения А. Ника).
Aлександр Карпенко 191
Aлександр Карпенко
Поэт, прозаик, композитор, ветеран-афганец. Член Союза писателей России. Закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Со-чинять стихи и песни Александр начал еще будучи школьником. В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный институт ино-странных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За службу Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, медалями, почет-ными знаками. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в литератур-ных журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен дискгигант стихов Александра Карпенко. Гастролировал по городам США, выступая с поэтичес-кими программами на английском языке. Снялся в нескольких худо-жественных и документальных фильмах.
192 Андрей Кнеллер / Andrey Kneller
Андрей Кнеллер / Andrey Kneller
Поэт, переводчик. Родился в Москве. Семья иммигрировала в Америку в 1993 году, когда Андрею было 10 лет. С детства Андрей свободно читал и говорил по-русски, хотя английский стал его вторым родным языком. В 14 лет начал писать стихи, и вскоре он начал переводить русских поэтов на английский язык. Цель его переводов – придерживаться ближе к тексту оригинала, сохраняя при этом ритм и музыкальность стихотворения. В на-стоящее время Андрей опубликовал 12 книг переводов, включая переводы таких поэтов, как Анна Ахматова, Марина Цветаева и Владимир Маяковский и многих других. Недавно вышла из пе-чати книга его собственных стихов «Discernible Sound». Сейчас Андрей живет со своей семьей в пригороде Бостона и пре-подает математику в старших классах.
Вадим Крейд 193
Вадим Крейд Поэт, историк литературы, переводчик, профессор-славист. Окончил Ленинградский и Мичиганский университеты. Доктор-ская степень по русской литературе в 1983. Преподавал в Кали-форнийском, Гарвардском и Айовском университетах. С 1995 по 2005 главный редактор «Нового Журнала» (Нью-Йорк). Автор и составитель более 40 книг о серебряном веке и литературе в эми-грации: «Образ Гумилева», «Поэты парижской ноты», «Алек-сандр Кондратьев. Боги минувших времен», «Ковчег. Поэзия пер-вой эмиграции», «Воспоминания о серебряном веке», «Георгий Иванов. Книга о последнем царствовании», «Петербургский пе-риод Георгия Иванова», «Николай Гумилев в воспоминаниях со-временников», «О русском стихе», «Вернуться в Россию сти-хами», «Русская поэзия Китая», «Словарь поэтов Русского Зару-бежья», «Русские поэты Америки. Первая волна эмиграции. Ан-тология» и др. Автор сборников стихотворений «Восьмигран-ник», «Зеленое окно», «Квартал за поворотом», «Единорог». Сти-хи, статьи, эссе, проза – в российских, американских и эмигрант-ских периодических изданиях, альманахах и антологиях.
194 Наталья Крофтс
Наталья Крофтс
Поэт, переводчик. Родилась в 1976 году в г. Херсоне на Украине, окончила филологический факультет МГУ им. Ломоносова в Рос-сии и магистратуру Оксфордского университета в Англии. Живёт в городе Сидней, Австралия. Автор двух поэтических сборников. Стихи, статьи, рассказы и переводы. Н. Крофтс публиковались в русскоязычной периодике и коллективных сборниках (в журналах «Нева», «Юность», «Новый журнал», «Работница», «Интерпоэ-зия», «Новый берег», в «Литературной газете» и др.). Стихи на английском опубликованы в четырёх британских поэтических антологиях. Лауреат ряда международных литературных конкур-сов («Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Цветаевская Осень», турнир «Пушкин в Британии» и многих других). В 2012 году сборник стихов Н. Крофтс «Поэт эпохи динозавров» вошёл в список «65 лучших книг года» в России, а в 2013 году – в длин-ный список премии «Литературной газеты» им. Антона Дельвига. Главный редактор литературной газеты «Интеллигент. Санкт-Петербург», сотрудник старейшей русскоязычной газеты Австра-лии «Единение», основатель и куратор портала «Русская литера-тура Австралии», член редколлегий русскоязычных литературных изданий России, Германии, Финляндии и США.
Игорь Джерри Курас 195
Игорь Джерри Курас
Поэт, прозаик. Родился в 1963 году в Ленинграде. Oкончил Тех-нологический институт целлюлозно-бумажной промышленнос-ти по специальности инженер-теплоэнергетик. С 1993 года живёт в пригороде Бостона, США. Автор сборников стихов «Кам-ни|Обёртки» и «Не бойся ничего», книги сказок для взрослых «Сказки Штопмана», книжек стихов для детей «Загадка приро-ды» и «Этот страшный интернет». Стихи и проза публиковались в периодических изданиях и альманахах России, Украины, Кана-ды, Германии, Израиля, США. Избранные стихотворения Игоря переведены на иврит, английский, немецкий и украинский языки.
196 Анатолий Либерман
Анатолий Либерман
Лингвист, литературовед, поэт, переводчик, критик. Родился в 1937 году в Ленинграде. Окончил английский факультет Педа-гогического института им. Герцена, работал, на кафедре ино-странных языков в Ленинградском политехническом институте и в Институте языкознания Академии наук по специальности «Скандинавские языки». В 1975 г. эмигрировал в США, живёт в Миннеаполисе, профессор Миннесотского университета. Препо-давал также в Гарварде, в Германии, в Италии и Японии, высту-пал с лекциями в ряде университетов Америки и Европы. Автор более 500 публикаций по тематике: общее и историческое язы-кознание, средневековая германская литература, история науки, история русской литературы. Переводчик английской и исланд-ской поэзии. Издал в переводе на английский язык труды вы-дающихся филологов Н. С. Трубецкого и В. Я. Проппа, книг по-эзии М. Лермонтова и Ф. Тютчева с комментариями переводчика, статей о крупнейшем скандинависте М. И. Стеблин-Каменском и о современных филологах. Был постоянным критиком выхо-дящего в Нью-Йорке «Нового Журнала». Как поэт, эссеист и кри-тик сотрудничает с литературными журналами русского зару-бежья – «Мосты» (Франкфурт-на-Майне); «Слово\Word» (Нью-Йорк). Автор поэтического сборника «Врачевание духа» (Нью-Йорк, 1996). Готовит к изданию книгу англоязычных переводов и комментариев поэзии Е. Боратынского. В 2015 г. B Москве него выходит перевод всех сонетов Шекспира, и по-англий-ски – книга o скандинавской мифологии средневековой культуры.
Евгений Минин 197
Евгений Минин
Поэт, пародист. Родился в г. Невель, Псковской области. B настоящее время живет в Иерусалиме. Oкончил Ленинградский политехнический институт. Автор восьми книг стихов, пародий и одной книги прозы. Председатель Международного Союза пи-сателей Иерусалима, главный редактор журнала «Литературный Иерусалим», ответственный секретарь «Иерусалимского журна-ла». Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта – Израиль, победитель конкурса поэзии издательства «Олма-медиагрупп», лауреат премии «Золотой телёнок». Aвтор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных россий-скими студиями грамзаписи.
198 Анатолий Нестеров
Анатолий Нестеров
Поэт, писатель. Родился в 1942 году в Караганде. Окончил Воро-нежский государственный университет, автор пяти поэтических сборников, изданных в разные годы в Воронеже и в Москве. Пу-бликовался в следующих журналах: «Смена», «Наш Современ-ник», «Подъём», «Союз писателей», «Невский альманах», «Вели-короссъ», «Роман-журнале 21 век», «Окно» (Ирландия), «Связь времён» (США), «Брега Тавриды» «Сибирские огни», «Ренес-санс» (Украина); в газете «Литературная Россия», в антологии «Русская поэзия 21 века» (издательство «Алетейя», Санкт-Петер-бург 2013 г.), а также в интернет-изданиях: «Русское литератур-ное эхо», «Гостиная», «Русское поле», «Русский глобус», «45 Параллель» и других. Член Союза писателей России. Живёт в го-роде Ельце Липецкой области.
Валерий Пайков 199
Валерий Пайков
Поэт, писатель. Живет в Израиле. Автор четырнадцати сборников поэзии. Публикуется в бумажной и электронной периодике, та-кой как – «Новая Немига литературная», «Крещатик», «Лите-ратурный Иерусалим», «Юг», «Мост», «Другие берега», «Бег» «День поэзии 87», «Невский альманах», «Новая литература», «Синь апельсина – из серии «Поэты Санкт-Петербурга», «Слово поэта», «45-я Параллель», «Топос», «Экумена», «Русский гло-бус», «Связь времён» и многих других. Участник ряда антологий, коллекций, альманахов и сборников. Входил в шорт-лист между-народных поэтических конкурсов: «Волошинские чтения» (2005), журналов «Крещатик» (2007) и «45-я Параллель» (2013). Автор очерков, рассказов, статей: «Сетевая словесность», «45-я Парал-лель», «Точка зрения»; монографий: «История жизни библейских патриархов» и «За обещанной землёй» (М. – Тель-Авив: Изд. ЭР.А, 2008, 2009). Автор проекта и составитель (совместно с Эвелиной Ракитской) альманаха «Ежегодник поэзии Израиля» (М. – Тель-Авив: Изд. ЭР.А, 2006, 2007-2008, 2009-2010). Член Союза русскоязычных писателей Израиля.
200 Валентина Синкевич
Валентина Синкевич
Поэтесса, эссеист, литературный критик и издатель, родилась на Украине, в Киеве, в 1926 году. Детство ее прошло в г. Остре, на Украине. Во время войны Остер был оккупирован немцами, и 16-летняя Валентина в 1942 была насильно депортирована в Гер-манию в качестве «остарбайтера» (вывезена в трудовой концла-герь). После окончания войны до 1950 находилась в лагерях для перемещенных лиц во Фленсбурге и Гамбурге. В 1950 году вместе с мужем, художником Михаилом Кaчуровским, и малень-кой дочкой, попадает в Америку. Валентина начала писать стихи еще в детстве, но опубликовалась впервые только в 1973 г., когда вышла из печати ее первая книга стихов «Огни». С 1983 года Ва-лентина Синкевич была главным редактором альманаха «Встре-чи» (до 1983 – «Перекрёстки»). Она является также состави-телем антологии русских поэтов второй волны эмиграции «Бере-га» (Филадельфия, 1992). Валентина публиковалась в ряде анто-логий и сборников, а также печаталась в периодических изданиях России и Америки. Она является одним из авторов-составителей «Словаря поэтов русского зарубежья» (СПб., 1999) и автором около 200 очерков, рецензий и критических статей, автором шести сборников поэзии и двух книг литературных статей и воспоминаний.
201
Сергей Сутулов-Катеринич
Поэт, главный редактор международного поэтического интернет-альманаха 45parallel.net. Родился 10 мая 1952 года в Северном Казахстане, живёт и работает на Северном Кавказе. Окончил филфак Ставропольского государственного педагогического ин-ститута и сценарный факультет ВГИКа. Член Союза писателей XXI века, Союза российских писателей и Союза журналистов России. Автор термина «поэллада», восьми книг стихов и много-численных публикаций в периодике. Лауреат ряда всероссийских и международных литературных конкурсов. Награждён медалью Императорского ордена Святой Анны. Юрий Беликов, Махатма российских поэтов – цитата-2012: «Однажды под горячую руку я нарёк Сутулова-Катеринича «испанским быком русской поэзии». На мой тореадорский взгляд, живущий в Ставрополе Сергей Сутулов-Катеринич – непроходимая (и необходимая) фигура со-временного поэтического ландшафта. Он пишет так, будто из тела его торчат, покачиваясь, как перья «Незнакомки» в воспалённом мозгу Блока, яростные бандерильи. Всё время раненый. И – готовый к новой схватке».
Нора Файнберг 202
Нора Файнберг
Поэт, писатель. Родилась в Москве. С 1978 года живёт в штате Пенсильвания, в пригороде г. Филадельфия, США. Работает вра-чом. Наряду со своей основной профессией, занимается литера-турной деятельностью. Ей принадлежат романы и повести «Белая сирень» (1984), «Дальше ты пойдёшь один» (1986), «И дождь пройдёт» (1990), «Александритовый перстень» (1996), «Поздняя осень в Дженкинтауне» (1998), «На руинах готики» (2006), «Укрощенье Кентавра» (2008), «Кривая судьбы» (2010), а также ряд сборников поэзии: «Свет и тени» (1994), «Следы на песка» (1997), «Post Mortem» (2001), «Облака» (2004), «По клавишам судьбы» (2006). Печатается в русскоязычной периодике. Ее сти-хи вошли в сборник «Триада». Нора Файнберг – участник анто-логии «Строфы Века: Мировая поэзия в русских переводах» (М. 1998).
203 Рудольф Фурман
Рудольф Фурман
Поэт, писатель. Коренной петербуржец, в прошлом – врач-эпиде-миолог, кандидат медицинских наук. Живет в США с 1998 года. С 1999 по 2003 – ответственный секретарь редакции журнала «Слово-Word», с августа 2003 года – редактор и дизайнер издательства «Mir Collection», с 2006 года – ответственный секретарь старейшего в эмиграции литературного издания на русском языке «Нового Жур-нала». Автор шести книг стихов: «Времена жизни, или древо души» (1994), «Парижские мотивы» (1997), «Два знака жизни» (2000), «И этот век не мой» (2004) и «Человек дождя» (2008), «После пере-вала» (2013), а также многочисленных публикаций в журналах, поэ-тических альманахах, сборниках и интернетовских изданиях США, Германии, Франции, России, Белоруссии, Украины.
Ирина Чайковская 204
Ирина Чайковская
Прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе. Семь лет жила в Италии, с 2000 года – в США. Как прозаик и публицист печатается в «Чайке», альманахе «Побе-режье» (США), «Новом береге» (Дания), в журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Знамя», «Вопросы литературы», «Вестник Европы» (Россия). Автор семи книг, в том числе «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011) и «Ночной дилижанс» (2013).
Татьяна Штильман 205
Татьяна Штильман (Татьяна Владимировна Мандельштам-Гатинская)
(фотография из архива Мари Стравинской)
Поэтесса и писательница первой волны эмиграции. Родилась в Киеве в 1904 году в семье секретаря правления Соединенного банка Владимира Арнольдовича Мандельштама (1872, Могилев – 1960, Париж). Род Мандельштамов считался древним. В роду бы-ли выдающиеся поэты: Рахель1, Осип Мандельштам, Юрий Ман-дельштам и Роальд Мандельштам2. Один из членов семьи соста-вил генеалогическое древо с ХI века и выяснил, что они – потом-ки РАШИ (Рабби Шломо Ицхак). Он был величайшим интерпре-татором Талмуда и писаний Царя Давида. Эта легендарная генеалогия ничем не подтверждается, но как семейная легенда имеет право на жизнь. В Париже Владимир Арнольдович работал бухгалтером. До 1920 года семья жила в Москве. Татьяна Мандельштам-Гатинская (Штильман) умерла в Париже в 1984 году. В 1920 году, в возрасте 16 лет уехала с родителями и братом, поэтом Юрием Мандельштамом из России -- сначала
1 Рахель – Рахель (Блувштейн/Сэла/Рахель, Рая, Саратов, 1890 – Тель-Авив, 1931), еврейская поэтесса. Умерла от чахотки в возрасте 40 лет. По описанию друзей была женщиной необыкновенной красоты. 2 Роальд Мандельштам (1932 – 1961), ленинградский поэт. (Дед со сто-роны матери – известный адвокат, Иосиф Владимирович Мандель-штам).
206 Татьяна Штильман
в Константинополь, потом в Париж. Юрий Владимирович
Мандельштам окончил Сорбонну и стал в Париже поэтом и
литературным критиком. Татьяна Владимировна получила
диплом художника-декоратора. В 1932 она году вышла замуж
за поэта Леонида Гатинского (псев. Леонид Ганский, 1905-1970).
Имела двух дочерей (Нина и Александра), которые живут в
Париже. Во время войны уехала с семьей на юг Франции и,
таким образом, семья спаслась от гибели. Брат Юрий уезжать от-
казался. 10 марта 1942 года он был отправлен фашистами сначала
в переправочные лагеря Компьень и Дранси под Парижем, а
затем в концлагерь в Польше. 15 октября 1943 года, в возрасте 35
лет, Юрий Мандельштам погиб в одном из подразделений лагеря
Освенцим, в Польше. Татьяна посвятила ему одно из своих луч-
ших стихотворений «Я все еще не научилась…». В 1930-х она
печаталась в парижских изданиях: «Перекресток», «Сборник сти-
хов», изданный Союзом молодых поэтов и писателей (Париж,
1930); «Сборник Союза молодых поэтов и писателей в
Париже» (1931, кн. 5); в выборгском «Журнале Содружества».
Входила в «Объединение писателей и поэтов» (Париж,
1931-1940). Она является автором ряда стихотворений,
опубликованных в «Пере-крестке», таких как: «Все дружней с
бессонницей и скукой…», «Ни к чему бессонные мечтанья…»,
«Слепые дни и серенькие ночки…» и «От этих слез,
бессильных и усталых…», и другие публикации. В 1931 опу-
бликовала отрывок из романа «Ультра-фиолетовые лучи».
Часто выступала на поэтических вечерах вместе с братом. До
войны печаталась под фамилией Штильман. После войны стала
печатать свои стихи под фамилией Мандельштам-Гатинская. В
1950 ее стихи были напечатаны в журналах «Новоселье»; одно
стихотворение «Это белое небо…» вошло в антологию
«Якорь» (Составители: Г. Адамович и М. Кантор. «Петро-
полис», 1936). Автор книги стихов «Пламень жизни» (Татьяна
Штильман-Гатинская. Париж, 1975 г., 67 стр.). Похоронена на
кладбище Пер-Лашез в Париже. В настоящее время в России и за
ее пределами имя поэтессы малоизвестно. Стихи, напечатан-
ные в этом сборнике, – из личного архива дочерей поэтессы (Ni-
na Coissac and Alexandra Berder), а также из архива Мари Стра-
винской, внучки поэта Юрия Мандельштама.
Татьяна Штильман 207
Отец Татьяны, Владимир Мандельштам,
прибл. 1935 год
Мать Татьяны, София Штильман- Мандельштам, прибл. 1935 год
Татьяна Штильман
208
Татьяна с братом и матерью, прибл. 1925 год
Татьяна, Китти Стравинская и Леонид Гатинский, приб. 1970 г.
(Все фотографии из архива Мари Стравинской, внучки поэта
Юрия Владимировича Мандельштама, печатаются с разрешения Мари Стравинской)
CHARLES SCHLACKS, PUBLISHER
NEW RELEASES
JOURNALS
Поэзия: Russian Poetry Past and Present ISBN: 1-884445-77-2
Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present
ISBN: 1-884445-76-4
BOOKS
Russian Poetry in Exile (1917-1975): A Bilingual Anthology. Translated and Edited by Yelena Dubrovina
ISBN: 1-884445-47-0
Yelena Dubrovina. Portrait of a Wandering Soul. Short Stories ISBN: 1-884445-49-7
Русские поэты Америки. Первая волна эмиграции. Антология. Составитель, автор предисловия
и комментариев Вадим Крейд Том I. ISBN: 1-884445-51-9 Том II. ISBN: 1-884445-52-7
Дмитрий Бобышев. Человекотекст. Трилогия.
Книга I. Я здесь. ISBN: 1-884445-73-X Книга II. Автопортрет в лицах. ISBN: 1-884445-74-8
Книга III. Я в нетях. ISBN: 1-884445-75-6
Charles Schlacks, Publisher. PO Box 1256, Idylwild, CA 92549 Email: [email protected]